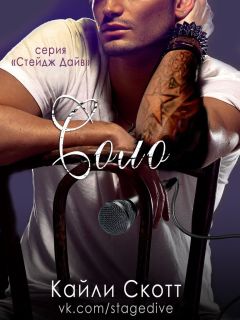Дан Цалка - На пути в Халеб

Обзор книги Дан Цалка - На пути в Халеб
Дан Цалка
На пути в Халеб
Рассказы
Очарованный словом
Находя вкус в высоком качестве работы, он все больше стремился выбирать для изображения самое прекрасное и самое разнообразное из того, что только ему попадалось.
Дж. ВазариДан Цалка стоит несколько особняком в когорте израильских писателей. Возможно, тому причиной его эстетизированное воображение, предпочитающее мир прекрасного миру обыденного, а возможно — умение читать на многих языках, что помогает ему свободно плавать по морям европейских литератур, как живых, так и называемых классическими. Приехав в Израиль в 1956 году, он был пленен библейским ивритом и не принял почти ничего из того, что предлагала ему еврейская литература нового времени. Замкнутость, зацикленность на национальных болячках и горестях не увлекли его ни пафосом трагического, ни унылостью безысходного, ни профетическим утопизмом. К началу 1960-х годов, когда Цалка начал писать, его взгляд на ивритскую литературу, как кажется, точнейшим образом могли бы выразить слова Гилберта Кийта Честертона, написанные, правда, по поводу иной и иновременной словесности:
«Современные трагические писатели пишут в основном рассказы; если бы они писали пространней, где-нибудь да прорвалась бы радость. Рассказы эти — вроде уколов: и быстро, и очень больно. Конечно, они похожи на то, что случается с некоторыми людьми… Они похожи на болезненные, большей частью короткие современные жизни[1]. Но когда изысканные натуры перевалили через страшные случаи и стали писать страшные книги, читатели восстали и потребовали романтики. Длинные книги о черной нищете городов поистине невыносимы… Люди обрадовались повествованиям о чужих временах и странах, обрадовались отточенным, как меч, книгам Стивенсона»[2].
Израильский писатель Цалка — гражданин мира, география его произведений обширна, оттого его персонажи принадлежат культуре как таковой, и даже еврейские национальные мифы осмысляются в универсальном ключе.
Цалку чрезвычайно занимает вопрос о литературном творчестве — истоках вдохновения и устройстве творческой личности. Он полемизирует с привычным представлением о Божественном вдохновении, о Музе, свойственном как европейской традиции: «Ты ль Данту диктовала?..»[3], так и еврейской: «Все, что наши великие святые стихотворцы слагают, слагается прежде в вышних, и коль скоро есть необходимость, чтобы то было сказано на земле, открывают его поэту, и он все записывает, а нет необходимости, чтобы звучало на земле, — так и витают стихи в заоблачных сферах»[4]. Антитезой ночному приходу Музы в стихотворении Ахматовой видится ночное появление Ангела в доме нерадивого иерусалимского сапожника (рассказ «Подмастерье»): небесный посланец нем, и истории, в которых за стаканчиком арака отводит душу его гостеприимный хозяин, рождаются на земле. Здесь уместно прозвучат слова Эдвина Панофски: «Средневековье привыкло сравнивать Бога с художником, чтобы сделать понятным для нас существо акта Божественного Творения — новое время сравнивает художника с Богом, чтобы героизировать художественное творчество: это эпоха, когда художник становится divino»[5].
Насколько сознает поэт, что обязан быть поэтом? Что стало бы с миром, если бы наделенный литературным даром человек предался иному занятию, сделался бы духовным лицом или философом? Какие жизненные коллизии помогают прозреть свое предназначение и исполнить его? Тема эта, конечно, не нова, но она по-прежнему будоражит читателей и обретает все новые аспекты и новые формы словесного воплощения, как, скажем, в книге Борхеса «Создатель». У Дана Цалки, на которого в юности сильнейшее впечатление произвел труд Джорджо Вазари «Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих», размышления над реальными или вымышленными эпизодами в судьбах признанных писателей и поэтов складываются в сюжеты, а сюжеты побуждают читателя к новым размышлениям.
Толчком к написанию рассказа «На пути в Халеб» послужила биографическая деталь: персидский поэт ХIII века Саади бывал в Алеппо (Халеб). Но Цалка не столько «реконструирует» обстоятельства его жизни, сколько решает вопрос о том, что ценнее для человечества: посвященная Богу жизнь суфия или посвященное вещному миру творчество поэта.
Саади «происходил из небогатой духовной семьи… учился в высшей духовной академии „Низамийе“ в Багдаде под руководством знаменитых богословов… посетил Мекку и более 20 лет странствовал по всему мусульманскому миру»[6]. Саади записал — или написал — основные свои поэтические произведения по окончании этих странствий. Обрисованный Цалкой эпизод круто изменил путь человека: до того Саади был известным поэтом, после случившегося стал бессмертным поэтом. Почему? Казалось бы, все ясно: «…эти бессмертные стихи могли никогда не быть подарены миру, если бы не случайно выплаченные сто монет». Роль меценатов в судьбе культуры неоспорима, однако, маскируясь этой тривиальной истиной, Цалка толкует об ином.
Поначалу Саади избрал жизненный путь духовного лица и примкнул к суфиям, своего рода исламским монахам. Суфии тоже сочиняли стихи, но их духовная поэзия пользовалась обычными словами как аллегорическим, даже мистическим кодом. Цалка сопоставляет монаха и поэта, пользуясь структурным принципом двойничества. В рассказе многие элементы парны, и автор намеренно акцентирует один компонент пары, тогда как более существенным предполагается второй. Так, Саади пишет для франка два стихотворения: «О погонщике слонов» и «О чистосердечии». Первое — шутливое, вроде пустячок[7], второе же имело религиозно-этическое содержание и, преодолев размежевание вероисповеданий, обрело бессмертие не только в персидской литературе, но и на мраморной доске костела.
Однако, на мой взгляд, главным тут является именно первое, предостерегающее от неправильного выбора жизненного попутчика. Недаром учили еврейские Мудрецы (Мишна, Авот, 1:6): «Иеошуа сын Перахии говорит: Найди себе наставника и заведи себе друга». Сам — найди и заведи. И тотчас возникает новая пара: стихотворение, которое недвусмысленно намекает на вульгарного, телесного франка (каким воспринял его Саади), по сути, бьет в союз поэта и суфия. Эти люди странствуют вместе, но чрезвычайно различны. Саади смотрит, слушает, впитывает в себя мир, причем не метафизический, а тварный: «Притча эта виделась ему ослепительной картиной, где песчинки были икринками разноцветных рыб, а вечнотекущий поток — свежей полноводной рекой». Суфий, в отличие от него, «был слишком пуст, а быть может, и слишком мудр, чтобы кто-то или что-то еще могло заинтересовать его». Он «созерцает небо». Каким бы чуждым ни казался сыну утонченной культуры Востока неотесанный рыцарь, это он заставил Саади сочинять, то есть пережить радостное возбуждение творчества, услышать в своей душе музыку и сделать ее стихами.
Благодаря столкновению с Тибо де Грюмаром Саади вырвался из «плена» религиозной духовности и непредвиденно для себя был вытолкнут в мир земной поэзии. Он, сочинявший стихи и прежде, ступил теперь на новый жизненный путь, открывшийся ему в силу желания быть чистосердечным. Поручая душу Богу, он (снова парность!) понял, что за душу вручил ему Господь. То была душа поэта, а не монаха. Да, он попал в Триполи и мучился на принудительных работах, но Бог признал правильным сделанный им выбор. Если бы он, как Йосеф дела Рейна в другой истории, спросил: «Угодно ли мое дело?» — он получил бы в ответ: «Коль ты преуспел в нем, угодно!» У Цалки чудесное избавление Саади должно убедить читателя: это знак Высшей Воли, благосклонной к тому, кто верно понял свое предназначение.
Сопоставление поэта и монаха оказывается ключевым и в рассказе «Взгляд, или Столетие со дня смерти Пушкина», действие которого происходит в 1937 году в Тель-Авиве. Из беседы с Даном Цалкой я узнала, что импульсом к написанию рассказа послужила фраза из работы Николая Бердяева, которую израильский писатель читал по-английски, а именно вопрос: «для судьбы России, для судьбы мира, для целей Промысла Божьего лучше ли было бы, если бы в России в начале XIX века жили не великий Святой Серафим и великий гений Пушкин, а два Серафима, два святых?»[8]. Цалка заставил Бердяева задать этот вопрос в «башне» Вячеслава Иванова и поместил туда Яковлева, персонажа, чья жизнь соединила бы пушкинскую эпоху и «серебряный век», к которому в известном смысле можно отнести и Черниховского, доброго знакомца Ходасевича, много его переводившего[9]. Так появляется рассказ в рассказе, и на иврите возникает сюжет о Пушкине.