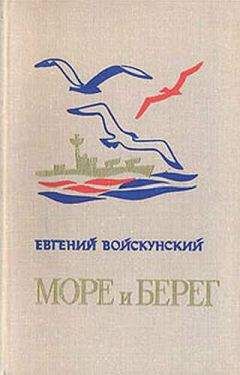Новый Мир Новый Мир - Новый Мир ( № 7 2009)
Гоголь избежал стилевой ловушки «котляревщины»: на рубеже 1820 – 1830-х годов русская литература предлагала больший набор моделей, с которыми мог играть молодой автор. Два полюса – дьяк Фома Григорьевич и «гороховый паныч», а между ними расположились все прочие рассказчики. Довольно быстро Гоголь создал свои маски и свои модели, которым усердно подражали новые эпигоны.
«Нам <...> надо писать по-русски, надо стремиться к поддержке и упрочению одного, владычного языка для всех родных нам племен. Доминантой для русских, чехов, украинцев и сербов должна быть единая святыня – язык Пушкина, какою является Евангелие для всех христиан... А вы хотите провансальского поэта Жасмена поставить в уровень с Мольером и Шатобрианом!»
Так, по воспоминаниям Григория Данилевского, проповедовал Гоголь за четыре месяца до смерти. «Провансальский поэт» – это, разумеется, Шевченко, о чьих стихах Гоголь тогда же отзывался довольно резко: «Дегтю много, и даже прибавлю, дегтю больше, чем самой поэзии, – но тут же прибавлял: – А его личная судьба достойна всякого участия и сожаления...»
Шевченко неизменно отзывался о Гоголе с восторгом – однако читал его в своем ключе, встраивая гоголевские сюжеты в свою поэтическую мифологию, что по-своему не менее жестоко (тема слишком обширная, чтобы хотя бы кратко здесь о ней говорить).
Почему Шевченко в стихотворении «Гоголю» (1844) причислил писателя к своим предшественникам? (Котляревский для него «батько», Гоголь – «великий друг» и «брат», хотя ни с тем, ни с другим Шевченко никогда не виделся.) Современные интерпретаторы могли бы сказать, что таким образом Шевченко пытался «вписать себя в канон» – но дело, кажется, не только в этом. Стихотворение «Гоголю» – еще и утопическая попытка соединить два в22222идения Украины: в начале Шевченко говорит «Ти смієшся, а я пл22222ачу», в конце – «А ми будем / Сміяться та плакать».
Два лика Украины, веселый и печальный, – конечно, именно так. Но...
Но гоголевская Украина, которая ушла в прошлое безвозвратно, оставив в настоящем только миргородских обывателей...
Но Украина Шевченко – и Костомарова и Кулиша, – готовая соединить славное, но мертвое прошлое с будущим, готовая побороть смерть «усильем воскресенья» [20] ...
Две эти Украины несовместимы. У них одно прошлое, схожее (но не тождественное) настоящее и совершенно разные будущие.
Исторический смысл появления Шевченко в том, что он отверг оба наметившиеся пути: и растворения в общерусской литературе как еще одной этнографической примеси, которая скоро исчерпает все свои возможности (утверждал же Белинский, что после «Тараса Бульбы» об истории Украины писать больше нечего), и замыкания в «литературе для домашнего обихода», которая отчасти может быть интересна и великороссам (как нежна Маруся у Основьяненко! как Марко Вовчок сочувствует крестьянам!). «Кобзарь» возник в том же контексте, что «Энеида», «Маруся» и «Диканька», но тут же оказалось, что решает он совершенно другие задачи – не в последнюю очередь потому, что Шевченко предложил столь же мифологизированный образ живой Украины.
Поэзия преображает мир – и былое и грядущее. Какой Украина была – этим она обязана Гоголю; какой стала – обязана Шевченко. Через обретение языка (прежде всего языка поэтического) Украина обрела и способность к развитию – прочь от внеисторической неподвижности, в которой она, по уверениям досужих путешественников, пребывала.
Но это имело свою цену, давно известную: отказ от «сокращенного эдема», существовавшего, впрочем, лишь в воображении, но столь прочно, что для многих он заслонял реальность. Но, право же, такую цену стоит платить.
Побежденный
А н д р е й В о л о с. Победитель. Роман. М., «АСТ»; «АКПРЕСС», 2008, 608 стр.
…смело входили в чужие столицы,
но возвращались в страхе в свою.
Иосиф Бродский, «На смерть Жукова»
Советского Союза нет уже восемнадцать лет, каждый новый год отдаляет от нас эту эпоху, воспоминания становятся все менее отчетливыми, как будто затягиваются туманной дымкой. Иронизировать по поводу советских порядков теперь дурной тон. «Тридцатую любовь Марины» Владимира Сорокина, «Монументальную пропаганду» Владимира Войновича или «Скажи изюм» Василия Аксенова тридцатилетний читатель уже воспринимает с трудом, а двадцатилетний и вовсе не понимает.
Опыт «Маскавской Мекки» Андрея Волоса с переносом советского прошлого в туманное будущее, на мой взгляд, был неудачен. Антиутопия должна быть актуальна. Советское же время, вопреки недавним опасениям либералов, все более переходит в департамент исторического романа, пусть даже полного намеков и прямых указаний на современность.
Новый роман Андрея Волоса посвящен не только и не столько Афганской войне. Ее первые выстрелы (огонь спецназовских «Шилок» по дворцу Амина) прогремят лишь в самом конце книги. Это роман о Советском Союзе, о постепенном саморазрушении советского общества.
Действие романа происходит в 1929-м, то есть в год «великого перелома», и в 1979-м, когда началась фатальная для Советского Союза Афганская война.
Давно замечено, что старая Россия кончилась не в 1917-м, а именно в 1929-м. В Гражданской войне исчезли целые сословия. Не стало дворянства и купечества, смертельный удар получило казачество, но «старый мир» похоронить не успели. Отчаянное сопротивление крестьян, в особенности Тамбовское и Сибирское восстания, сорвали планы большевиков. Наступление на «мелкую буржуазию» отложили. Еще несколько лет в городах торговали нэпманы, открывались и лопались «акционерные общества со смешанным капиталом», процветали коммерческие рестораны. Но то была лишь пена, ее вскоре смоют почти без следа. Последним живым дореволюционным классом, пережившим Гражданскую войну, оставалось крестьянство. Корней Чуковский, по сословной принадлежности крестьянин, но до революции знакомый с крестьянами, так сказать, заочно (по художественной литературе), в голодном 1921 году впервые увидел настоящую русскую деревню и русского мужика: «…в основе это очень правильный жизнеспособный несокрушимый человек, которому никакие революции не страшны. <…> Русь крепка и прочна: бабы рожают, попы остаются попами, князья князьями — все по-старому на глубине. <…> Никогда еще Россия, как нация, не б[ыла] так несокрушима» [1] .
Один из героев «Победителя», успешный советский прозаик Бронников, одновременно с заказухой под названием «Хлеб и сталь» пишет «в стол» роман о своей дальней родственнице Ольге Князевой, которая чудом пережила раскулачивание и голод. Ее родители погибли на поселении, st1:personname w:st="on" Ольга /st1:personname с сестрой бежали с гибельного Северного Урала в родную Белоруссию, а дядя Трофим Князев погиб в афганском походе Виталия Примакова.
Для Андрея Волоса коммунистическая власть — несомненное зло. СССР — это не новая, не советская Россия, а уж скорее — анти-Россия. Для большевиков русский народ и его культура — всего лишь люди и вещи, которые надлежит грамотно использовать. На первый взгляд посторонний, но, в сущности, очень важный эпизод романа — расхищение Третьяковки. Правителю дружественного Афганистана понравилась картина Кустодиева, и нарком Луначарский, не задумываясь, подарил ее падишаху.
«А что вас удивляет, — говорит директор Третьяковки ее главному смотрителю. — Нормально они себя ведут <…> Как самые обыкновенные завоеватели. Как татары. Как хунхузы какие-нибудь там… Если б хунхузы Москву захватили, что было бы?»
Одна и та же сила отправляет мужиков с женами и детьми на голодную смерть в тайгу, раздает дружественным деспотам произведения искусства и отправляет в далекую южную страну экспедиционный корпус.
Командир батареи Трофим Князев честно исполняет «интернациональный долг» — помогает (впрочем, без успеха) местному феодалу расправиться с восстанием «сына водовоза». В тайге от голода погибает родной брат, в деревне вместо хлеба едят мышиный горошек, на базаре растут цены, но красная конница все равно идет на Кабул.
Для Андрея Волоса природа советской власти за пятьдесят лет не изменилась. Только силы уже не те, едва хватает, чтобы справиться с диссидентурой да разными «антисоциальными элементами». Офицеры спецподразделений КГБ, натренированные против террористов, проводят рейды по притонам, помогают милиции (заклятым своим врагам!) выселять проституток и алкоголиков за 101-й километр. В общежитие. Навсегда.