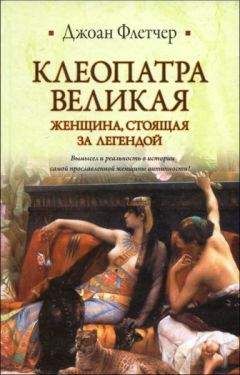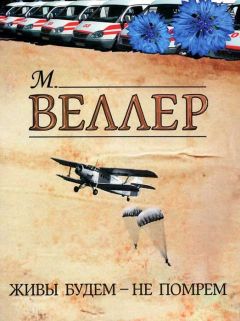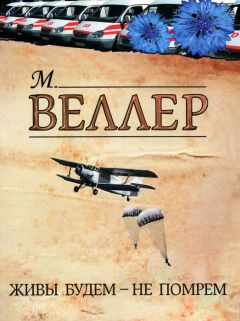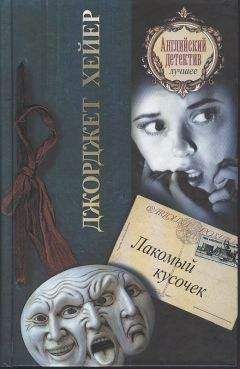Э. М. Хоумс - Да будем мы прощены
– А вот тут у меня знакомые, – говорит Черил.
– Где?
– Вон там. На три часа смотри, тот человек и его жена.
Я смотрю, примерно на полтретьего замечаю группу мужчин, которые уставились на двух целующихся женщин. Никогда до конца не понимал, почему мужчинам нравится смотреть на двух женщин или иметь двух женщин сразу. Для меня это было бы источником путаницы: четыре груди, две вот-это-чья, куча работы… Мне кажется, у меня бы предохранитель выбило от перегрузки.
– Помню, я о них слышала, – говорит Черил.
– Что слышала?
– Что-то в этом роде, что они такое делают, – но не думала, что это правда. Думала, я одна такая.
– Ясно, что такого не бывает. Всегда найдется кто-то, кому тоже надо.
В половине десятого рефери объявляют пятиминутный перерыв, а потом – раунд салочек на раздевание. Каждый раз, как в тебя попадут, ты должен что-то с себя снять. Ух ты!
Я направляюсь к бару, по дороге останавливаюсь глянуть в отдельные кабинеты. Много вижу такого, что у нас называлось «на сухую», но стал бы я делать это в мини-молле с рядом живущими соседями?
Я припадаю к бару, пью больше обычного. Женщины топлесс с лазерными сумками смешивают белое вино с содовой, а мужчины бегают вокруг в полустояке, и я не знаю, отчего они больше заводятся: от полуголых девушек или от азарта игры. Слышу, как какая-то женщина спрашивает у Черил:
– Можно?
– Наверное, – отвечает та.
Я отвожу глаза: даже в таком месте у людей должна быть возможность уединения. Краем глаза, как в замедленной съемке, вижу руку женщины, длинные тонкие пальцы, блеск обручального кольца на руке, тянущейся к груди Черил. Она касается кожи – едва заметно, будто пыль сдувая, касается, не касаясь. А потом женщина наклоняется и целует Черил. Черил отвечает на поцелуй. И женщина тут же исчезает – испарившись от испытанного.
– Не хочу портить тебе удовольствие, но мне нужно завтра с утра в город, и я хочу быть дома в приличное время.
– Я позволила женщине прикоснуться ко мне, – отвечает Черил, явно не подозревая, что я стоял в это время рядом.
– Это было в первый раз?
– Да. – Она делает паузу. – Она так легко прикоснулась… щекотно было.
– Звучит так, будто тебе понравилось.
– Мне это не было неприятно.
– Двойное отрицание. Ты хочешь сказать, тебе понравилось?
– Я бы не высказалась так определенно. Мне случалось ощущать на себе женские руки – но всегда в кабинете врача. «Поднимите руку, другой рукой возьмите грудь, вложите ее вот сюда, в маммограф», – но никогда просто так, для удовольствия. Понятия не имела, что от женских губ ощущение такой мягкости. А ты как? Было что-нибудь?
– Ну, да, один мужик об меня потерся. Но я думаю, он просто протискивался мимо. Потерся и извинился. Вот от этого «извините» мне и стало неловко. Когда потерся – это было как-то даже интересно, а когда извинился – ощущение было не очень, поскольку мне и в самом деле понравилось.
– Мне кажется, ты слишком много в это все вкладываешь.
– Не стал бы, не будь это в первый раз, – отвечаю я. – Мне пора, уже поздно становится.
– У тебя еще есть время выпить кофе? Заодно и сделаем подробный разбор полетов.
Черил смеется собственной шутке. Когда мы идем через парковку, она спрашивает:
– Ты можешь поверить, что существует вот такое место прямо здесь, рядом с аптекой, магазином больничных товаров и открыточным киоском? Я тут для свекрови открытки покупаю.
Воняя потом, отчасти чужим, мы заходим во «Френдлиз».
– Мне кажется, тебе это не очень было по душе, – говорит она.
– Откровенно говоря, меня удивило, как это все тоскливо.
– И меня.
– Что вам принести? – спрашивает официантка.
– Кофе, – говорю я.
– И больше ничего?
– Кофе и яблочный пирог? – предлагаю я.
– С мороженым? – спрашивает официантка.
– Да, если не трудно.
– Кофе и яблочный пирог, – говорит Черил. – Так дедушка всегда заказывал.
– Отлично, – киваю я. – Яблочный пирог уберите, и мне клоуна из пломбира – шоколадного.
Официантка уходит, а я наклоняюсь к Черил.
– Зачем тебе это надо было? – спрашиваю я.
У нее такой вид, будто она сейчас расплачется:
– Я же любопытная. Я думала, ты это про меня уже знаешь. Мне все время нужно что-то другое, что-то новое.
Приносят мороженое, она за него принимается.
– Работа тебе нужна, – говорю я. – Может, лицензию риелтора или выучиться на социального работника.
– Есть у меня лицензия риелтора, – отвечает она. – Это значит, что можно трахаться с незнакомыми людьми в чужих домах. – Она неожиданно рыгает, и меня обдает через стол волной запаха белого вина и шоколадного мороженого. – Прошу прощения, – говорит она. – Наверное, не надо было мне пить, пока я на этом новом лекарстве.
– Не знал, что тебе выписали новое лекарство.
Я трезвею.
– Да, всю схему лечения поменяли.
– Ты не думаешь, что все сегодняшнее предприятие – следствие этого нового лекарства? Почем ты знаешь, что это было действительно твое желание, а не странный побочный эффект?
– Вряд ли желание посмотреть клуб свингеров включено в список побочных эффектов. Говорю же: я любопытная – разве это плохо? И если честно, мне нравится мысль о том, чтобы потрахаться с мужиком, а после не считать себя обязанной стирать ему одежду, готовить обед и покупать носки…
– Что-нибудь еще? – спрашивает официантка.
– Только счет, – отвечаю я, заметив теперь, что еще несколько «парочек» с вечеринки тоже сидят здесь, раскрасневшиеся, и смеются слишком громко.
Торжественно и печально я одеваюсь на свое последнее занятие. Надеваю костюм, галстук. Серьезно, с сознанием важности своей цели. Как на похороны полагается.
В аудиторию вхожу с высоко поднятой головой, сдерживая ощущение горя и предательства, и несу с собой только старый кассетный магнитофон.
– Сегодняшнее занятие заканчивает целую главу моей жизни, – говорю я, устанавливая оборудование. – В честь и память Ричарда Милхауса Никсона я буду записывать свои комментарии.
Магнитофон я устанавливаю на гулкую кафедру, несколько раз постукиваю по ней, чтобы привлечь внимание.
Гулкие удары по дереву усиливаются микрофоном – тук, тук, будто председательский молоток – слушайте, слушайте! Я одновременно нажимаю «вперед» и «запись» и откашливаюсь.
– Проверка, раз… два… три… проверка, проверка.
Нажимаю стоп, перемотку. Проигрываю записанный текст. Голос, какой ожидался, – классический металл.
– Я выхожу сегодня к вам, на это наше последнее занятие, собираясь говорить главным образом о силе и власти истории, о понимании, что, если жить только в настоящем, не чувствуя за собой прошлого, у нас не будет будущего. Представьте, если хотите, Америку без Ричарда Никсона, страну без прошлого, мир, в котором действительно каждый за себя, где не возникает, не строится доверие и союз между людьми и странами. Подумайте о времени, в котором вы сами живете. Ваша история – ваша культура, ваше поведение, – наверняка изучена тщательнее и документирована полнее, чем история любого предыдущего поколения. Десятки, если не сотни раз в день, фиксируется ваше изображение, а предписываемая вам дорога узка и не прощает ошибок. Представьте себе на минуту пост в Интернете, который никуда не исчезает – постоянно присутствует, не допуская возможности роста, развития или прощения.
Я останавливаюсь перевести дыхание.
– Сегодняшнее занятие отмечает переходный этап моей жизни: мое последнее выступление в университетском театре, прощальный поклон, если хотите. Я подумал, что могу воспользоваться случаем, чтобы просто поделиться с вами своими мыслями.
Но прежде всего я хочу попросить вас отключить все электронные приборы и представить себе заседание в никсоновском Белом доме: президент, глава его администрации Холдеман, Хейг, Генри Киссинджер и еще несколько избранных. Представьте, что у каждого из них в одной руке чашка кофе из «Старбакса», на которой написано имя владельца и аннотация содержимого, другая рука держит электронное устройство, а они почту смотрят, сидят в Твиттере, эсэмэски пишут и вообще. Не решил бы Никсон, что они его не слушают? И стал бы он записывать собственные мысли, полночные раздумья, чернилами на бумаге, или раскрыл бы смартфон и натвитил, наэсэмэсил бы многотомные отступления в создаваемое послание «О положении страны»?
Подумайте об этом и отключите свои устройства. Сегодня мое последнее выступление, и я прошу безраздельного внимания.
Я останавливаюсь на долгую минуту и жду, пока прочирикают, прощаясь, все приборы.
– Сегодня в девятнадцатый раз стою я перед вами – здесь, откуда столько лет исходит свет учения, где поколениями формировали умы и биографии. Я всегда старался давать вам материал как можно лучше. Я считал своим долгом сделать все возможное, чтобы донести до вас вашу историю и историю вашей страны, важность и ценность как знания прошлого, так и умения искать в этом знании ответы. Сегодня, в некотором смысле, день моей капитуляции. Чтобы учить, нужны ученики, адепты знания, жаждущие его. Мне известно, что многие из вас пришли сюда лишь потому, что курс истории обязателен. Я знаю по слухам, что этот курс считается «фигней». Равным образом мне известно, что многие из вас – первые в своих семьях, кто пошел учиться в колледж, и вместо того, чтобы воспринять эту привилегию как обязательство учиться, вы ее сочли индульгенцией, чтобы болтаться без дела с приятелями. Я всегда считал себя преподавателем, учителем, наставником молодежи. Не имея собственных детей, я допустил – вероятно, напрасно, – чтобы мне их заменили студенты. Я участвовал в вашей жизни, ходил на ваши футбольные матчи, подбадривал вас с трибуны. Я верил в вас. И как бы ни менялись течения в академической жизни, как бы ни спадал интерес к изучению истории, какие бы ни были веяния, я всегда ощущал долг, который мне следует выполнять. И позвольте мне высказаться совершенно ясно: я бы так поступал и дальше, как бы ни было мне трудно, как бы ни затрудняло преподавание мои научные исторические исследования. У меня нет привычки пасовать перед трудностями. Но так как в данном учебном заведении резко меняется направление, в котором должно идти преподавание истории, моя работа перестает приносить пользу. Я смотрю на это в долгосрочной перспективе. Сейчас я отмечаю контраст Белого дома Никсона и Белого дома Буша-старшего и Дика Чейни, по сравнению с которыми Ричард Никсон кажется простаком.