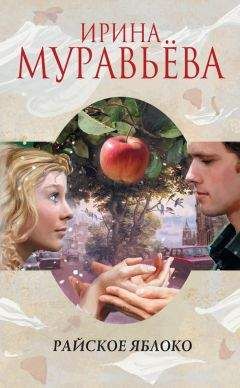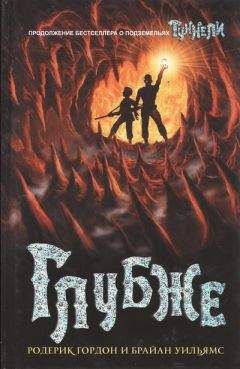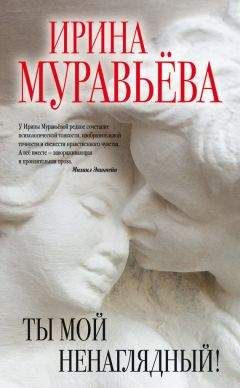Ирина Муравьева - День ангела
Мне, однако, не нравится, что мама и Вера стали сливаться в моем сознании, словно все то, что я знаю или, лучше сказать, подозреваю в отношении мамы, распространяется и на мою жену. Отчего, например, она стала постоянно задерживаться на работе? Я, конечно, могу в любой момент проверить, на работе ли она, но мне стыдно подвергать нас обоих такому унижению. Не знаю, что хуже. Вчера, когда я принял LSD, я сильно «настроился» на своего отца и действительно ненадолго погрузился во глубину его сознания. Я вдруг почувствовал то, что чувствовал мой отец все эти годы, ощутил его гнев против мамы, его обозленное сознание своего бессилия, всю его неправоту по отношению к ней и даже жестокость, за которыми было целое море бессмысленно страстной и не нужной маме любви.
Завтра я могу немного увеличить дозу, но нужно, наверное, предупредить Веру, чтобы она не испугалась, а, напротив, очень внимательно наблюдала за мной и, если я буду совсем плох, позвонила бы Медальникову».
Вермонт, наши дни
На берегу озера паслись белые, как молоко, коровы. Над ними блистало веселое солнце. Коровы казались почти что святыми от этой сияющей солнечной дрожи, как будто бы вся их душа вдруг раскрылась, как только цветы раскрываются утром. Людей рядом не было. Странное дело: отчего людям кажется, что они важнее всего остального – хотя бы вот этой спокойной коровы? А что они знают о жизни и смерти? Ни часа рожденья, ни часа кончины, ни даже того, что их ждет на дороге, когда они просто гуляют беспечно.
Подобные странные мысли мелькали в голове Ушакова, разгоряченной любовью и истерзанной воспоминаниями о ее теле и голосе. Да, голосе тоже. То тихом, то детском, а то очень женском, похожем на голос Манон в телефоне, когда та, как шелком, шуршала по уху и вдруг неожиданно вешала трубку. Он боялся напоминаний о Манон, боялся ее неостывающих прикосновений, и ему самому себе не хотелось признаваться, что в Лизе скользили черты сходства с нею: привычка наматывать волосы на указательный палец, хмуриться и улыбаться одновременно, смотреть исподлобья с веселым укором.
Он подошел к ее двери и постучал. Комната была, как всегда, не заперта. Те же туфли с коричневыми лентами у кровати, та же книга, которую она, скорее всего, уже не читала, тот же слабый, слегка дымный запах ее духов, который он уже знал и который сразу же вызвал в нем непреодолимое желание увидеть ее. На вырванном из записной книжки листке было написано: «Ну, где же ты??? Где ты?» Листок валялся на полу. Ушаков остановился в недоумении: кто мог написать ей так требовательно, перед кем она должна отчитываться? Стало неловко, что он прочел что-то, не рассчитанное на посторонних, и он поспешно вышел, плотно прикрыв за собой дверь.
Надежда с выражением досады на своем круглом румяном лице оттаскивала от стула Коржавина, который пытался сесть на чью-то сумку, не заметив ее по причине своего плохого зрения, но бросила все: и сумку, и, с полным подносом, слепого Коржавина, когда Ушаков появился в столовой.
– Куда же вы делись? – тревожно спросила Надежда, посмотрев на Ушакова так, что он немедленно почувствовал себя виноватым. – Кого-нибудь ищете?
Он слегка пожал плечами.
– У нас тут та-а-акие де-е-е-ла! – низко и влажно протянула Надежда. – Матвеюшка плох, спит под трубкой, в спектакле его заменили на Пола. Вы видели Пола, ну, Пашу? С усами? Вон он, макароны себе набирает! Но Паша и роли-то толком не знает, и роль не его! А что делать, скажите? Ведь съехались все: весь Нью-Йорк, вся Канада! Из Баффало даже приехали трое! Вермонт наш – весь тут, плюс, конечно, Нью-Хэмпшир! Я вас познакомлю, хотите? Со всеми!
Ушаков вежливо улыбнулся. Надежда поправила вспотевшие от волнения короткие колечки волос на лбу.
– Смотрите, смотрите! В углу, там, где лимонад, видите? Маленькая такая? Видите?
Ушаков увидел очень маленького роста женщину с нагловатыми глазами.
– Вот ангел так ангел! – вздохнула Надежда, как будто ей самой хотелось бы стать ангелом, но она не умеет. – Она строит хосписы! Такое ее дело жизни. Приехала к нам из Москвы, вышла замуж. Здесь есть адвокат один русский, Порфирий. Он сам из семьи композитора Мусоргского. И носит фамилию Мусоргский. Проша. Женился на ней там, в Москве. Безрассудно. Влюбился, все бросил. Она – Евдокия, он – Проша. Красиво? А хосписы? Это ведь важное дело! У нас и в Париже их так не хватает!
– Откуда вы знаете?
– А где их хватает? – справедливо удивилась Надежда. – На все нужны деньги.
– И что? Адвокат дает деньги?
– Какой адвокат? И откуда там деньги? Он пьющий, Порфирий. Дают коммерсанты.
– Американские коммерсанты?
– Не только, не только! Свои тоже есть, патриоты. Здесь новые русские обосновались. Они и дают свои деньги Дуняше. Мы с мамой считаем, что так даже лучше.
– Чем как?
– Чем чужие. Чужие дадут и тотчас же забудут. Чужим я не верю.
– А эти – свои?
– Ну, вы – прямо Коржавин! Он тоже не верит. Конечно, свои! Из России ребята.
– Зачем же они поселились в Вермонте?
– Зачем? Так им лучше. Они очищаются здесь, ходят в церковь. Церковными стали. С Дуняшей и Прошей. Постятся, говеют. Ну, в общем, как надо. Но главное – хосписы.
– А бизнес их как же? – не вытерпел Ушаков.
– Что бизнес? – протянула Надежда. – Вам не рассказывали про атамана Кудеяра?
Ушаков отрицательно покачал головой.
– Пусть это легенда, но чистая правда! – заторопилась Надежда. – И сам Кудеяр был во много раз хуже! Пойдемте, я с Дунечкой вас познакомлю.
Благородная Дунечка заскользила по Ушакову бесстыжими глазами. Ушаков поежился.
– А эта старушка откуда? – спросил он у Надежды, чтобы отвлечь ее от Дунечки.
Грустная, аккуратно подстриженная старушка с ласково-бессмысленным, когда-то, наверное, миловидным лицом одиноко сидела в углу столовой и медленно допивала морковный сок, отчего весь подбородок ее и кончик маленького хрупкого носа стали ярко-оранжевыми.
– Ах, это вдова! – Надежда перехватила взгляд Дунечки и с силой отвела его от Ушакова своими вспыхнувшими, как у кошки, зрачками. – Она тут, у нас, все равно что в России. Ей так говорят: «Ты поедешь в Россию». Привозят сюда.
– А зачем ей в Россию?
– Ну, это длинная история! Сначала она была критик. В России, в Союзе. Вообще – литератор. Потом эмиграция. Выросли дети. Она не работала, только писала. Ну, очень глубокие корни! Культура! Дружила с Ахматовой. Все с ней дружили. Потом дети все разбрелись, разженились. Большая семья, всех не пересчитаешь. Осталась при ней только дочка, буддистка. Жила постоянно в ашраме, муж тоже. Потом муж поехал в Италию. Вроде по делу. А может быть, так: на курорт, я не знаю. Увидел там дом и купил. С виноградом. Вокруг виноградники – на километры! Все в ягодах, в гроздьях. Короче, Италия! Стал виноделом. Семью всю – в Тосканию, на винодельню. Хотя от семьи мало что уцелело, рассеяны по миру хуже евреев. Осталась буддистка-жена да вот теща. Еще взяли гуру себе из России. Сначала у них были гуру индусы, но те невозможно капризные люди: одно им не так и другое не эдак. Пришлось из России везти, из Саранска. Там тоже есть гуру, хотя их там меньше.