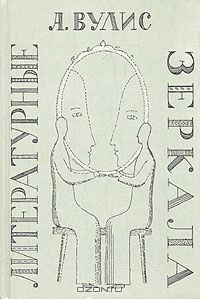Нил Гейман - Дым и зеркала (сборник)
Он размышлял о том, все ли писатели берут оттуда свои идеи, или только Майкл Муркок.
Если бы ему сказали, что они просто все придумывают, из головы, он бы ни за что не поверил. Должно же быть место, откуда берется магия.
Разве не так?
Этот тип позвонил мне из Америки прошлой ночью и сказал: «Слушай, старик, мне нужно поговорить с тобой о твоей вере». Я ответил: «Я не знаю, о чем ты. Нет у меня никакой гребаной веры».
Майкл Муркок. Из разговора. Ноттинг-хилл, 1976.Полгода спустя Ричард прошел бар-мицву и должен был перейти в другую школу. Ранним вечером они с Джи Би Си МакБрайдом сидели на траве за школой и читали. Родители поздно забирали Ричарда из школы.
Он читал «Английского убийцу»[79], а МакБрайд был поглощен книгой «Дьявол несется во весь опор».
Ричард поймал себя на том, что щурится. Темно еще не было, но читать он уже не мог. Все предметы вокруг становились серыми.
— Мак! Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
Вечер был теплым, а трава — сухой и мягкой.
— Не знаю. Может, писателем. Как Муркок. Или как Тэ Хэ Уайт[80]. А ты?
Ричард сидел и думал. Небо было серо-фиолетовым, и в нем осколком сна висела призрачно-серая луна. Он сорвал былинку и медленно растирал ее между пальцев. Он не мог теперь сказать: «Писателем», — это ясно. Получилось бы, что он повторяется. Но он и не хотел стать писателем. В самом деле. У него были и другие желания.
— Когда вырасту, — наконец сказал он задумчиво, — я хочу стать волком.
— Но это никогда не случится, — возразил МакБрайд.
— Может, и не случится, — сказал Ричард. — Там увидим.
Одно за другим зажигались школьные окна, и фиолетовое небо казалось теперь темнее, чем прежде, а летний вечер был исполнен нежности и покоя. В это время года дни длятся бесконечно, а ночи так и не наступают.
— Мне бы хотелось быть волком. Не всегда, а временами, когда темно. Я носился бы ночами по лесу, — сказал Ричард, словно про себя. — И ни на кого бы не нападал. Я был бы не таким волком. Только бегал бы в лунном свете в лесной чащобе и никогда не уставал, и не сбивался с дыхания, и мне не для чего было бы останавливаться. Вот кем я хочу быть, когда вырасту…
Он сорвал еще одну былинку, аккуратно оторвал от нее листики и принялся медленно жевать стебель.
И оба мальчика замерли в серых сумерках, плечо к плечу, ожидая, когда наступит будущее.
Холодные цвета
I.
В девять меня разбудил почтальон, который,
как оказалось,
не почтальоном был, а продавцом голубей,
кричавшим:
«Жирные голуби, чистые голуби, белые голубки
и серый сланец,
живые, прекрасные голуби,
совсем не то, что всякое полудохлое дерьмо».
У меня-то голуби есть на обмен. Я так и сказал.
Он объяснил, что в бизнесе этом недавно, а прежде
работал
в довольно успешной компании: аналитика
ценных бумаг, но его заменил
компьютер RS 232 с кварцевым монитором.
«Но сетовать вовсе не стоит, дверь открывается —
дверь закрывается,
главное, сэр, не отстать от времени, от времени
не отставать».
Он всучил мне бесплатно голубя
(«Привлекаем клиентов, сэр,
а однажды попробовав нашего, вы уж не взглянете
на других»),
и важно спустился по лестнице, распевая:
«Живы-ы-ые голуби, живы-ы-ые».
В десять я был уже выбрит и принял ванну
(намазавшись кремом из пластиковой упаковки,
для вечной молодости и сексапила),
голубя взял я с собой к себе в кабинет;
мелом вновь очертил круг со старым компом посредине,
со всех сторон монитора повесил по амулету,
и с голубем сделал что должно.
И компьютер включил: он гудит и жужжит,
в нем вентиляторы воют, как штормовые ветра в океане,
торговый корабль погружая в пучину.
Но вот загрузка завершена, и пищит он:
Готово, готово, готово…
II.
В два часа я иду по знакомому Лондону, то есть
он был мне знаком, пока делитом
из него не убрали важное нечто,
и вижу в костюме при галстуке человека;
как кормящая мать, прижимает псион-органайзер
а тот тянет свой хладный рот в поисках титьки,
знакомо мне это чувство, и слежу я, как дыхание
превращается в облачко пара.
Холод собачий в Лондоне, никогда не подумаешь,
что ноябрь; из-под земли доносятся звуки,
то поезда грохочут.
Странно: по нынешним временам метропоезд —
почти легенда,
а ездят в них девственницы да чистые сердцем;
остановки такие: Авалон, Лионесс и острова Блаженных.
Может,
придет открытка, а может, и нет.
А если туда вглядеться, становится ясно:
нет под Лондоном места для метро;
над люком я грею руки.
Из него вырывается пламя. А значительно ниже
мне улыбается бес, машет и корчит он рожи,
как в разговоре с глухими, иль дальними, иль чужаками.
Безупречное действо: то это вылитый гном,
какая программа, выше всяких похвал,
то Альберт Великий заархивирован в трех сидюках,
то Ключи Соломона, и цвет, и без цвета,
и все гримасы,
гримасы,
гримасы.
Экскурсанты вперились в ад через перила,
на обреченных (должно быть,
худшее из испытаний;
вечные муки еще выносимы в достойной тиши,
в одиночку,
но чтоб на людях, жующих
пончики, чипсы, орешки, на людях,
которым не очень-то и интересно…
Должно быть, они, грешники, так же себя ощущают,
как звери в зверинце).
Голуби машут крылами в восходящих из ада потоках,
возможно, им память подскажет,
что где-то поблизости есть тут четыре
льва, и вода, что не замерзает, а еще
истукан; на него экскурсанты глазеют охотно.
Каждый из них заключил сделку с бесом: десяток
чистых дисков за душу.
И каждый увидел родича в пламени том, машет, кричит: Эгей!
Эгей! Дядя Джозеф! Глянь, Нерисса, твой двоюродный дед
дядя Джо,
он умер раньше, чем ты родилась,
это он там, внизу, в трясине, по самые уши в пене
кипящей,
и черви, вон, видишь, ползают по лицу. А прекрасный
был человек. Мы все так рыдали
на кладбище.
Помаши-ка ты дяде, Нерисса, помаши-ка ты дяде.
Продавец голубей рассыпал на булыжниках в извести прутья,
а еще крошки хлеба, и ждет.
И меня приветствует кепкой.
«Ну как вам сегодняшний голубь, небось, понравилось?»
Я, согласно кивнув, шиллинг бросаю
(он вначале подносит руку с железкой: не волшебно ли
золото,
и только после берет в ладонь).
Я говорю: по вторникам. По вторникам приходите.
III.