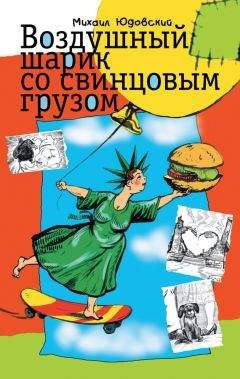Сволочь - Юдовский Михаил Борисович
— Но почему сейчас?
— А когда? — раввин сердито вскинул брови. — Завтра? Послезавтра? После дождичка в четверг? После годовщины кошки вашей бабушки?.. Послушайте, — уже мягче добавил он, — ум человека заключается в том, чтобы в любую минуту быть готовым к смерти, а мудрость — чтобы ни на миг в нее не верить. Чтобы знать, что он больше, чем она. Вы не могли бы хоть ненадолго проникнуться умом и мудростью?
В то же мгновение в дверь синагоги заколотили тяжелые кулаки, и чей-то властный голос прорычал:
— Открывайте, псы!
— А у нас что, заперто? — раввин удивленно покосился на кантора.
Тот с убитым видом кивнул.
— Ну, тогда не будем открывать, сами справятся, — резюмировал раввин. — А знаете что, вы бы высунулись из окна и спели им что-нибудь своим волшебным голосом. Они бы тогда отсюда, как от чумного барака, шарахнулись.
— Открывайте, собаки! — потребовал все тот же голос, и в дверь снова забарабанили.
— Значит, опять мы войдем в историю как побежденные… — тихо, с невыразимой горечью проговорил кантор.
— Что еще за побежденные? — возмутился раввин. — Где это вы видели в истории побежденных?
Где побежденные — там и победители. А где они? Я вас спрашиваю — где они, победители? Прошу вас, не говорите напоследок глупостей.
Тут дверь затряслась, сорвалась с петель, и в синагогу ворвалось несколько мужчин во главе с атлетом-мусульманином. Он был все в той же белой рубахе со следами пролитой утром православной крови, голову его обвивала зеленая повязка.
— Добрый вечер, господа, — сказал раввин. — Вы, конечно, к нам?
Мусульманин не ответил. Он шагнул к сидевшему в кресле раввину, сгреб его за лацканы пиджака, достал из-за пояса нож и одним взмахом перерезал ему горло. Раввин захрипел, схватился за горло — и тут же обмяк и сполз вниз. Ноги его в черных брюках нелепо разъехались, словно раздвинутые ножницы, а голова осталась на сиденье кресла, повернув к пришельцам горбоносый и слегка насмешливый профиль.
Мусульманин, не меняя выражения лица, взглянул на посеревшего от страха кантора. Тот отступил на шаг. Губы мусульманина дрогнули в усмешке, рука с окровавленным ножом поднялась к смуглой могучей шее и провела перед ней черту. Кантор попятился к полке с реликвиями и уперся в нее спиной. Мусульманин, уже не пряча ухмылки, двинулся вслед за ним. Рука кантора нащупала на полке булыжник — ту самую «точную копию», стиснула его побелевшими пальцами и метнула в великана-убийцу.
Мусульманин схватился за висок, изумленно глядя на кантора, между его пальцев побежали струйки крови, а в следующее мгновение он пошатнулся и рухнул на пол.
— Ата хицлихта, Давид! — пробормотал кантор, не отводя взгляда от огромного распластанного тела и бронзового чернобородого лица с обезображенным виском. — Ты победил, Давид!..
Собратья убитого предводителя при этих словах вышли из оцепенения и посмотрели на кантора.
— Ой, все, — прошептал кантор, прижав кончики пальцев ко рту.
Сверкая ножами, мусульмане накинулись на кантора и молча изрезали его в куски.
Утреннее солнце, как всегда нежное, золотисто-розовое, рассыпало над Хаттенвальдом теплые лучи. Город, сумрачный и темный после тяжелого сна, медленно протирал глаза, покрывался синими, сиреневыми, зелеными, наконец, пятнами, в садах его и скверах запели дрозды, зачирикали воробьи, даже тучные ленивые голуби наполнили булькающими звуками свои короткие сизые шеи, аккуратные клены, платаны и ясени подставили солнцу отдохнувшие за ночь листья, розовые кусты развернули посвежевшие, тяжелые от росы бутоны, и вряд ли кому пришло бы в голову, что накануне в городке случилось несколько убийств кряду. Убийств, притом, знаковых, так что православная и мусульманская общины остались без своих лидеров, а еврейская община исчезла вовсе.
В доме покойного предводителя православных вдова его, красивая, статная зеленоглазая женщина лет тридцати с небольшим, повязав поверх русой косы черный платок и занавесив зеркала такой же черной тканью, глядела на рассевшихся за круглым столом в гостиной плакальщиц. Глаза ее были сухи, а на лице написано что-то вроде презрения. Плакальщицы, отчасти искренне, отчасти по обычаю проголосив от заката до рассвета, клевали носами и терли покрасневшие от слез и бессонной ночи глаза.
— Ну, вот что, бабы, — наконец проговорила вдова, — наревелись и спасибо. Ступайте спать. Я сама тут управлюсь.
— Да как же ты останешься одна? — робко позевывая, возразила одна из плакальщиц.
— Ох, не смешили б вы меня, — усмехнулась красивая вдова. — Время, вроде, неподходящее. И когда ж это я была не одна? С муженьком моим новопреставленным, что ли? Идите, бабы, по домам. У вас мужья, слава Богу, живые, толку от них, правда, как от моего покойника.
— Ты к чему это клонишь? — возмутилась другая плакальщица. — Ты это брось. Своего еще не схоронила, а уже на чужих телегу котишь.
— Котишь, — передразнила вдова. — Научилась бы по-русски говорить. Ох, бабы, бабы, ну и дуры же вы!
— Да что ж это, в самом деле! — вскинулась третья. — Мы к ней по-соседски, погоревать о ее вдовьей доле, а она нас — дурами!
— Потому что дуры и есть! — отрезала вдова. — Вот вы тут сидите, квохчете: ах, бедная, как же она без мужа, да еще бездетная, а про себя, небось, думаете: ох, и повезло же, стерве. Ну, чего уставились? Да признайтесь хоть раз в жизни, хоть раз в жизни правду скажите: так или нет?
Плакальщицы молчали.
— Ладно, сама вижу, — продолжала вдова. — А раз молчите, за всех скажу: мужики наши — говно. И покойник мой, царство ему небесное, таким же говном был. Все они пропили, что могли. Мозги свои, счастье, любовь, всю нашу бабью жизнь пропили! А кто не пропил, те еще хуже!
— Да ты к чему это? — вмешалась первая плакальщица.
— К чему? — Вдова усмехнулась. — А к тому, что устала я. До смерти устала. Мне бы сейчас вместо него, — она кивнула куда-то за окно, — в гроб прилечь, может, и отдохнула бы немного. А он бы пусть помаялся в одиночку. Я-то без него не пропаду, а вот что бы он без меня стал делать? Во что бы превратился?
— Эт верно, — согласилась вторая плакальщица, — мужчины наши как дети. Ничего сами не могут — присмотри за ними, покорми, ублажи, только что соску не дай.
— Соску они сами себе найдут, — стиснула губы вдова. — Ну, а если вы все понимаете, все видите, чего ж вы перед ними так стелетесь? Почему позволяете собой помыкать?
— А что нам остается? — пожала плечами третья плакальщица. — Бабья доля. Или ты в Хаттенвальде этом… эмансипировалась, прости Господи?
Первая и вторая плакальщицы с уважением посмотрели на третью, а затем насмешливо, но в меру, не забывая о трауре, — на вдову.
— Это ты, я погляжу, нахваталась всякой дряни, — сурово отрезала вдова. — А я человек прямой, русский, и я так скажу: Россия — страна женственная, и душа у нее женская. Зачем ей мужская голова?
Хуже нет, когда душа с головой не ладят. Сколько еще нам такое терпеть?
— Ты что же, — удивилась первая плакальщица, — хочешь, чтобы кто-то из нас, баб, мужиками верховодил?
— Да не кто-то, — уже с откровенной насмешкой поправила третья, — она же себя предлагает. Так, что ли?
— А хоть бы и так! — гордо ответила вдова. — Уж лучше я, чем какой-нибудь подзаборник. А не хотите меня — сами приберите своих мужиков к рукам, мне без разницы. Только чтоб ни одна мужская сволочь больше нами не командовала!
Плакальщицы переглянулись.
— Нет, — вздохнула первая, — мне такое не поднять. С одним не знаю, как справиться.
— Ладно, чего уж там, — махнула рукой третья, — сама надумала, сама и берись за вожжи. Ты у нас теперь женщина свободная, сил у тебя хватит.
— Ой, девоньки, — испуганно прижала ладонь к губам вторая, — а мужики-то наши что скажут? А ну как прибьют?..
— Не прибьют, — уверенно заявила вдова. — Посмеются сперва, похихикают — ишь, мол, чего бабы удумали, а потом сами власть отдадут, и с превеликим удовольствием. Оно им надо — за что-то отвечать, о чем-то заботиться? Им бы выпить, пожрать, погулять да поваляться. В семьях-то кто всем заправляет? Мы. Хозяйство они на нас спихнули, а власть и ответственность еще охотней спихнут. Что вы, русских мужиков не знаете?