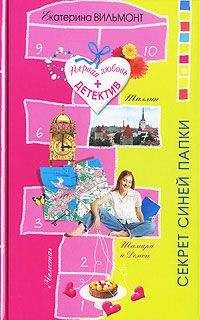Ксения Велембовская - Дама с биографией
На вид получалась сумасшедшая вкуснятина, только насчет соли были сомнения: не маловато ли? Попробовать она не решалась: известное дело — лизнешь, и разыграется такой аппетит, что остановиться будет уже невозможно, а надо срочно похудеть хоть на килограмм, чтобы завтра на вечере в ЦДРИ, а потом на ужине в ресторане «Берлин» выглядеть на уровне.
Есть хотелось зверски. Пришлось налить себе последние полстакана кефира и, убавив газ под кастрюлькой, постараться отвлечься сборником Германа Гессе. Марк сказал: гениальная проза.
Времени до его возвращения с конферанса на праздничном концерте в ДК железнодорожников было предостаточно, чтобы успеть и почитать, и навести на кухне полный шик-блеск: все перемыть, протереть и сервировать стол под белой скатертью, как любит хозяин: две, одна на другую, фарфоровые тарелки, серебряные нож и вилка, хрустальный стакан для компота.
Не было еще и восьми, когда на кухню вдруг ворвался Марк — именно ворвался, а не вошел! — в пальто, в ботинках, с какими-то пустыми картонными коробками в руках.
— Собирайся быстрее, складывай вещи! — закричал он.
С перепугу Люся чуть не вывернула блюдо с горячим перцем на пол: Марк никогда в жизни не повышал на нее голос.
— Что ты застыла как истукан?! — заорал он еще громче. — Собирайся, говорю тебе! Где у нас чемоданы, черт возьми?! — Он кинулся в комнату и стал срывать со стен картины и иконки. — Тащи чемоданы, сумки, коробки, все что есть, быстрее!
— Объясни мне, пожалуйста, что случилось? — взмолилась она.
— Додика загребли!
— Как это загребли? Куда?
— Ты что, совсем дурочка? — рассвирепел Марк, торопливо распихивавший по карманам деньги. — В милицию! В тюрягу! Посадили Додика, так тебе понятно?
— Да, — по-прежнему ничего не понимая, кивнула она. — А за что?
Наглаженные рубашки полетели из стенки на диван. За ними пронеслись пиджаки с вешалок, брюки, галстуки. Марк обернулся и прошептал страшным шепотом:
— За доски… Догадываешься, чем это мне грозит?
И Люся вдруг поняла: те доски, иконы, которые она отвозила Додику, тот сбывал иностранцам! Отсюда у Марка и доллары, припрятанные на антресолях, и чеки, и пухлая пачка денег в ящике. Вообще всё. Столь очевидная мысль, почему-то никогда не приходившая ей в голову раньше, мгновенно отрезвила ее, и она бросилась помогать Марку.
К полуночи они упаковали в чемоданы и коробки, переложив полотенцами и постельным бельем, самые ценные картины, иконки, антиквариат, навязали пять узлов с носильными вещами и, когда дом затих, начали потихоньку перетаскивать все это вниз, в машину, переговариваясь приглушенными голосами.
— Мар, давай я все-таки позвоню Нюше, предупрежу, что мы приедем?
— Ни в коем случае. Боюсь, мой телефон уже прослушивается. Бутерброд — известная скотина, он наверняка уже сдал нас с Пименом. Садись в машину, покарауль, а я притащу остальное.
Гнать по пустынному ночному городу Марк не решился — чтобы не привлекать внимания гаишников к машине, по-воровски набитой узлами. Вытирая капли пота со лба и опасливо озираясь по сторонам, как будто кто-то мог их услышать, он снова и снова повторял нервным, срывающимся шепотом: «Никому ничего не говори, в квартиру не звони и не заходи…»
— Ой, я совсем забыла…
— Что, что ты забыла?! — перепугался он и так резко затормозил, что Люся чуть не ударилась лбом о переднее стекло. Уставившиеся на нее глаза были белыми от страха.
— Я… я… я сегодня приготовила для тебя перец… он испортится, протухнет… Может, мне завтра все же забежать на Ленинский?
Марк расхохотался, прямо как Мефистофель:
— Ха-ха-ха!.. По-твоему, лучше, если я протухну на нарах, да? — и в отчаянии уронил голову на ослабевшие руки, только что крепко сжимавшие руль.
— Мой милый, мой любимый, мой прекрасный, надо ехать! Пожалуйста, поехали.
В начале третьего ночи Люся с замиранием сердца нажала на кнопку звонка в квартиру матери: истеричного материнского гнева она боялась больше, чем всей московской милиции вместе взятой.
Удивительно, но никакой истерики не было. Поначалу обалдевшая от столь неожиданного визита, Нюша, в ночной рубахе и босиком, быстро накинула халат и без лишних слов принялась помогать Марку таскать и прятать коробки — в гардероб, тяжеленные чемоданы — под высокую кровать с кружевным подзором. Только все приговаривала: «Тише, тише…»
— Спасибо, Анна Григорьевна! Век не забуду! — на ходу чмокнул ее Марк, скользнул губами по Люсиной щеке: — Прощай, Лю! — и помчался вниз по лестнице, перепрыгивая через ступеньки.
— Подожди, я провожу тебя! — Не нужно! — Нет, я с тобой! — Оставайся здесь! — Куда ты поедешь? — Сам не знаю! — До свидания! — Пока! — Я люблю тебя, Мар! Очень люблю! Возвращайся скорей! Я буду ждать тебя… Хоть всю жизнь!
Последние ее слова он уже не мог услышать. Из-под колес взметнулся фонтан брызг, и вскоре красные «жигули» превратились в две стремительно уменьшающиеся вдалеке огненные точки…
В комнате с выключенным светом на черном диване белела постель: одеяло в хрустящем пододеяльнике, свежая простыня, подушка. Но попробуй-ка усни после всех волнений! Нюша тоже не спала, ворочалась. Деревянная кровать под ней все время поскрипывала.
— Мам, ты прости нас. Я знаю, тебе завтра рано на работу, но у нас не было другого выхода.
С кровати послышался тяжелый вздох, а после скрипучей паузы — философский голос:
— Сколько веревочке ни виться…
— Что ты имеешь в виду? — не поняла Люся.
— А то, что я тебе сто раз говорила, да ты не слушала: с трудов праведных не построишь палат каменных!.. Ох, грехи наши тяжкие! — снова закряхтела мать, переворачиваясь на другой бок.
«Высказалась!» — сердито подумала Люся и вдруг отчетливо представила себе свое ближайшее будущее: без Марка, приживалкой при матери, с которой уже никогда не найти общего языка, в тесной квартире, где не захочешь, а все равно столкнешься нос к носу.
Если бы она в ту ночь знала, что разлука с Марком продлится не неделю, не две, а целых пять месяцев, то, наверное, от отчаяния вскрыла бы себе вены кухонным ножом.
Общий язык мало-помалу нашелся. А куда деваться? Сначала она просто старалась быть тише воды, ниже травы, чтобы не нарываться, а через неделю-другую уже и прикидываться не понадобилось: такая навалилась тоска! От неизвестности, от не оставлявшего ни на минуту страха за Марка: что с ним, как он, где он? — и от собственного, чем дальше, тем больше, зависимого положения. Как уж там истолковывала ее пришибленность Нюша, она особенно не задумывалась, но вскоре заметила, что та все чаще напевает «Рябинушку», то есть пребывает в хорошем настроении. Так или иначе, но мать больше не возникала: ни попреков, ни нравоучений, ни злобных выпадов в адрес Марка. Наоборот, ее лексикон неожиданно пополнился словом «наш».