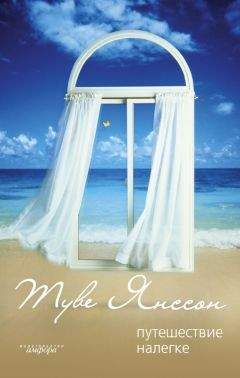Томмазо Ландольфи - Жена Гоголя и другие истории
Абсурд подпитывается кровью. Игра идет по крупной: на кону жизнь. Писательство — приближение к концу, к финалу, к исчезновению. Чем больше слов, тем ближе роковая черта.
Возбужденное словоизвержение захватывает человека тем сильней, чем бессильнее он в попытках назвать по имени то, что его мучает. У пустоты нет имени. В пустоте поток слов силится заместить собой жизнь. В этом потоке жизнь остается бессловесной, немотствующей. Так расшифровывается психологическая партитура одного из сильнейших произведений Ландольфи — повести «Немая». Жертва немотствует и благодушествует, а палач рядом с ней исходит потоками слов, не может замолчать ни на секунду...
В «Немой» проступает «Кроткая» Достоевского. Рефлексию рассказчика (посмею? не посмею?) можно возвести и к терзаниям Раскольникова. Мотив непоправимости убийства заставляет вспомнить «Крейцерову сонату» Толстого. Хитроумное обхаживание старым грешником молоденькой девочки перекликается с темой Нимфетки у Набокова. Ландольфи, как всегда, включает мотивы, наигранные в ассоциативной памяти читателя. Но он нажимает эти клавиши, повинуясь закону собственной мелодии.
Любовь (эрос, но иногда и чистый секс) — последняя пауза перед роковым решением. Последняя ставка в игре, подменяющей жизнь. Иногда это ощущение реализуется в игровом сюжете напрямую — тогда результатом оказывается «Упущенная игра». Иногда (как в названной повести) любовь может выпасть в качестве долгожданного спасительного выигрыша. Иногда (как в повести «Взгляды») такое спасение выпадает в последний момент, неожиданно, вопреки тревоге, фатально цепенящей рассказчика. Но чаще всего любовь реализуется как неотвратимый шаг к гибели. Это даже не гибель — это лишь выявление небытия, сокрытого в бытии. Снятие покрова с тайны.
Женщина появляется у Ландольфи как бы «под покровом». Под покрывалом одежд. Специалисты по психоанализу (а также приверженцы современной филологической техники, исследующие текст как сплетение мотивов) могли бы сказать, что женщина, едва прикрытая одеждой, — навязчивый мотив у Ландольфи. Он не может оторваться от линий и форм, предполагаемых, предвкушаемых им под тонким слоем материи, но и открыть эти формы не спешит... или не смеет. Потому что отброшенный покров выявляет нечто страшное: или обезображенное, уродливое тело, или — еще страшнее — тело безукоризненно прекрасное, которое в свою очередь оказывается не более чем «материей», физической оболочкой, прикрывающей... то, чему нет имени... пустоту... безбытие, освобождающееся от бытия.
Собственно говоря, все это можно интерпретировать и вполне реалистически. Во всяком случае, точность и достоверность психологического рисунка, оплетающего у Ландольфи пустоту, позволяет судить о происходящем без всякой мистики. Подлец, которому некуда деть себя и который не понимает, зачем ему жить, должен был бы покончить с собой. Если вместо этого он убивает пятнадцатилетнюю девочку, которую перед тем из похоти соблазняет, то он делает это именно как подлец, и никакие философские бездны, освященные Достоевским, не отменяют ощущения подлости.
Бесстрашие, с каким выводит нас Ландольфи из «бездн духа» к этой реальной драме, бесстрашие ночного мыслителя, лунного созерцателя, лунатика, идущего краем реальности и вдруг оступающегося в реальность, делает его, при всей «загадочности», одним из сильнейших писателей жизни в «загадочном» Двадцатом веке. Ибо чем горше потери, созерцаемые человеком из своего невыразимого небытия (потеря достоинства под давлением силы; потеря смысла под гипнозом игры; потеря Слова в потоке слов; потеря любви в бессилии похоти), тем рельефнее вы чувствуете, что именно теряет и утрачивает человек. Во всех четырех описанных сферах (власть, игра, творчество, эрос).
Джено Пампалони выделяет у Ландольфи четыре другие сферы рефлексии. Жизнь и слово, игра и Бог.
Слово и игра — совпадают с самоощущением Ландольфи, выраженным в его «Фаусте». Жизнь (которая, по наблюдению Пампалони, у Ландольфи взаимоабсурдна слову) соотносится с темой «раздавленности», «ничтожности» человека перед насилием. Остается последний вопрос: где в этой драме Бог?
Бог — «в машине», безучастный и далекий, отвечает итальянский критик.
Русский критик в этой ситуации сказал бы: вот ужас богооставленности.
«Слепое всевидящее» божество — вечноприсутствующее вечноотсутствие высшего начала у Ландольфи. Начала, которое равно концу.
В романе «Старые девы» (написанном в 1945 году, на русский еще не переведенном, по мнению некоторых ценителей — программном у Ландольфи) есть проясняющий эту тему диалог двух священнослужителей, «старшего» и «младшего», — о том, кого и за что Бог простит, а кого простить нельзя. Речь там идет об обезьяне, лемуре, звере, который по ночам тайком «служит мессу», оскверняя храм. Оскверняет он его — в зверином неведенье, но и служить рвется — в таинственном порыве к Богу, от звериного неведения, впрочем, неотделимом. Виноват он?
Опять-таки в эти зверские координаты вы можете транспонировать нашего родимого Смердякова, священнослужителей же, «старшего» — монсиньора Тостини и «младшего» — падре Алессио, соотнести со старцем Зосимой и Иваном Карамазовым, но у Ландольфи суть в следующем: если зверь и человек равно дороги Господу, то как Он терпит кощунство?
— Я и есть Бог, как и всякая прочая тварь, — отвечает герой Ландольфи. — Говоря так, я попросту хочу еще раз повторить: я — уже Он, со всем, что в Нем есть доброго и злого; и даже «сотворение мира» таким образом бессмысленно: нельзя говорить о тварях, созданных Богом, если Бог и есть созданные Им твари; Бог ничего не создает, Он есть; я есть; всё есть; или же — коль скоро все наши разграничения неважны — Его нет, и меня нет, и всего нет. Или же есть — ничто. Или его нет. Как угодно.
Тут не только Достоевский, тут и Толстой с его Пьером, приникшим к Платону Каратаеву: «все во мне, и я во всем». Толстовское размывание личностного бога в природной безмерности, которое может привести к бунту, как у героев Достоевского.
Приводит ли героев Ландольфи?
Оставляет на грани. На гибельной грани, на краю. Этот баланс — тема вечной тревоги Ландольфи и принцип его письма. С первых проб пера до последних строк мастера. Между романом 40-х годов, где божество растворено «во всем», и рассказом 60-х, где сказано, что невозможно выделить из неба «небесинку», а из бытия — «бытиинку», так же нет грани, как между этим исчезающим божеством и Всевышним «Фауста-67», мощно возглашающим с небес: хотите знать, кто спасется? Никто!...
Исследователи Ландольфи согласно отмечают в его творчестве своеобразную «открытость» эволюции, единство почерка, постоянство авторского умонастроения, стилевую стабильность от начала до конца. Сопоставление начала и конца, предпринятое мной, — не попытка проследить эволюцию; «точка поворота», ощутимая при конце войны и финале режима, — скорее, «точка наблюдения», из которой видна связь посыла и результата. Джанкарло Пандини в книге «Ландольфи» (1975) намечает такую точку в первой половине 50-х годов (1954 — год выхода «Теней», второго после «Осенней истории» сборника рассказов, того самого, где возвращена правда о Марии Джузеппе); критик говорит о двух этапах: об этапе самообретения фантастического мира Ландольфи и об этапе игры с реальностью, в которую вступил Ландольфи, обретя свой мир.
Обретя мир в смертной щели фашизма. Сыграв роль в мистерии небытия. Пронеся через всю жизнь мету черного юмора — усмешку «ловкого и хитрого человека».
— Короче, господа, что бы мы ни делали, что бы ни предпринимали, нас все равно нет. Нет, и точка.
Это из книги 1979 года. Того самого года, когда Ландольфи «исчез».
Написанное им — акт сопротивления внешнему насилию, но это лишь первый, ближайший, непосредственно наблюдаемый акт драмы. Суть драмы глубже и значительней того, в чем она выражается при том или ином насильственном порядке, итальянский ли то фашизм, германский нацизм, испанский франкизм или русский большевизм. Что-то общее есть во всех этих вариантах единения, что-то, чему историки и философы еще не могут найти удовлетворительного объяснения и что они покрывают термином «тоталитаризм». Бытийные, глубинные корни поветрия еще не ясны; глубинные разрывы бытия, потребовавшие такой кровавой компенсации, еще не изжиты. Может быть, писатели, художники ближе если не к объяснению феномена, то к ощущению его? Ландольфи передает внутреннюю расколотость, потаенную опустошенность бытия, его леденит сумрак онтологической бреши, его мучает тень, в которую закатывается мир, и вместе с тем мир этот переполнен чувством животной, звериной, «насекомой» какой-то биоактивности, бредовиной, заполняющей брешь, прущей в щели, забивающей выморочное сознание.
Человек должен сопротивляться — и этой животной силе в себе, и той слабости, которую она компенсирует. Но как? Сопротивляться силе — силой? Выворачивая эту силу наизнанку, обрушивая ее на противников? Такому сопротивлению Ландольфи был чужд. Он сопротивлялся на другом уровне, иногда невидимо и неслышимо, — сопротивлялся той скрытой «порче», которая рождает ситуацию раскола человеческой реальности.