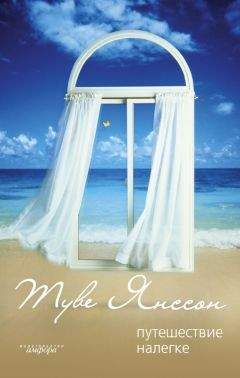Томмазо Ландольфи - Жена Гоголя и другие истории
Марокканцы насилуют служанку, простую набожную женщину, и она умирает.
Марокканцы — это война, это знак ужаса, нашествия, насилия. Не в силах вынести происшедшее, молоденький рассказчик не просто скрывает факт насилия, он ставит на место насильников — себя, он наивно маскируется под дурачка и подлеца, бесцельно издевающегося над собственной нянькой, — только бы вытеснить из реальности деспотическую силу, ломающую в человеке достоинство.
Писатель возвращается к этому сюжету, чтобы договорить правду, и правда — не только в том, что пришли солдаты и изнасиловали, убили безответную женщину. Правда еще и в том, что народное «невежество» смыкается с вакханалией «сильных личностей», в этом народном невежестве заинтересованных. Страшная правда — в том, что интеллектуалы настолько не выносят этого невежества, что скорее готовы взять на себя (мысленно) грех насильников, чем попытаться что-то исправить в этой реальности. Невыносимая правда — в том смиренном вздохе, которым отвечает Мария Джузеппа на свое унижение: «Уж хоть были бы красавцы!..» Этот вздох не вместить не только молоденькому студенту 1929 года — его не вместить и опытному автору 1954, и именно с этой точки его дух уходит в «ничто», в невозможность оправдания, в немыслимость вытеснения — в то противостояние, один на один, где «с той стороны» подступает насилие, равное небытию, и «с этой стороны» остается опустошенное сознание, равное небытию же.
Мотив игры (чаще картежной, но иногда — игры театральной, карнавальной, и шире — жизненной, с особым акцентом на «правилах игры») возникает у Ландольфи периодически, как ключевой, и всегда ведет к ощущению бесцельности игры и бессмысленности выигрыша. Метафора эта не доведена до той всеобъемлющей степени жизнезамены, как это сделано у Германа Гессе в «Игре в бисер», но в принципе перед нами философема того же порядка: игра в жизнь есть вытеснение жизни, и потому надо играть. Сквозь игровой блеск, сквозь узоры ситуаций, сквозь психологические кружева, сплетаемые вокруг этих игр, просвечивает все то же: пустота. Или, как сказано в «Упущенной игре», повести 1964 года, — скука. Надо забыть. Забыть скуку. Надо вытеснить из сознания ощущение пустоты. Надо снять самоощущение ничтожности.
В этом смысле игра идет всерьез, и, чем чаще Ландольфи уверяет читателя, что он валяет дурака, тем ближе отчаяние разума. Юмор встречной иллюзии: если на первой странице «Теней» сказано «по правде говоря», значит, начинается мистификация; если к финалу тебе намекают, чтобы ты ждал мистификации, значит, жди крови. Маскарад, свистопляска теней и призраков, хоровод ряженых, вернисаж пугал — верный знак, что найдут труп и пошлют за полицией, — хотя в последней фразе, по той же логике «встречной мнимости», повествователь заметит, что «чуть было» не дал волю воображению...
Вслед за ним вы идете по краю, словно лунатик в простыне, и, куда вы вместе с ним свалитесь: в небытие или в бытие, — неизвестно, да и неважно, ибо бытие есть небытие.
Иногда из этой сумеречной бездны Ландольфи бросает завистливые взгляды в сторону наивной реальности. Иногда ему чудится зов здоровой провинции, «угрюмой и пылкой, с ее непобедимыми тайными страстями, с ее гордостью, с ее бесконечными сложностями, с ее запинанием... с ее неукротимой и ревнивой девственностью...» Призрак Марии Джузеппы кровоточит в сознании.
Иногда писателя тянет в несбыточный Девятнадцатый век, к поэтам, которые рассказывали всякие истории, «перемежая их личными соображениями, фактами из собственной жизни и прочим, так что уж невозможно было понять, о чем они пишут...» (опять «встречный абсурд»; читай: все было слишком понятно в Девятнадцатом веке...).
Иногда писательское воображение подсказывает Ландольфи совершенно фантастические литературно-игровые ситуации, особенно интересные для русского читателя, так как, славист и русист по первоначальной университетской специализации, Ландольфи охотно строит свои фантасмагории на русских матрицах. Чуть отложив общую оценку этой тяги, хочу высветить пока только сам импульс, толкающий Ландольфи на эксперименты вроде «Жены Гоголя», где наш классик представлен надувающим себе резиновую куклу и уестествляющим ее в качестве жены. Сквозь кощунство, почти невыносимое для русского читательского сердца, вы чувствуете странную, обескураживающую силу такого труположества, и прежде всего — безжалостно-зоркое знание гоголевской проблематики. Вы вспоминаете, сколь притягательно-красивы у Гоголя мертвецы (убитый Андрий... не буду длить списка... не буду и взвешивать очередной раз мифологему «мертвые души»). Вы не можете не оценить точность определения гоголевского духа, который «сам с собою разобщен и самому себе враждебен». Вы оценили бы и «бледное отчаяние» из характеристики гоголевского мира, данной ему Ландольфи в предисловии к «Петербургским повестям». И, как ни странно, вы должны будете согласиться, что чудовищная надувная баба, подчас просто склеенная из словесных метафор, неуловимо «ложится» в полный мистики и мистификации мир Гоголя, что это сказано на «его языке», хотя сказано жестоко и беспощадно, почти на грани допустимости.
Так вот, этот сдвиг к беспощадности и есть самое интересное. В тяге Ландольфи к русскому мистицизму угадывается нечто большее, чем просто «приобщение к тайне», — тут есть какая-то подавленная зависть к «веселию духа», к естественному безумству гоголевских героев, к тому, что им «все можно», «все нипочем»; у сумрачного, подавленного итальянца это приобщение к «русскому карнавалу» приобретает жутковатые, гротескные, механичные формы: насос, мази... горящая резина... «Как всякий русский, Николай Васильевич до страсти любил бросать в огонь ценные вещи...»
Если анализировать тут игру мотивов, манипуляцию культурными символами и литературными реалиями, то можно воспринять прозу Ландольфи как постмодернистскую и даже зачислить его в предтечи этого направления. Можно вообще всю историю культуры переписать на языке постмодернизма, и это получится не хуже, чем то, как в свое время историю культуры переписали с точки зрения реализма. Читатель видит, что я более склонен ко второму варианту: к реалистическому истолкованию писательской фантастики, — это многое объясняет, хотя, разумеется, ничего не исчерпывает. Ландольфи зачисляли в «герметики», и это тоже в каком-то смысле верно, однако тоже идет мимо сокровенной тайны его творчества. Его, правда, не зачисляли в последователи Кафки... а впрочем, зачисляли: Пьеро Панкраци писал о кафкианском «непорочном зачатии» его прозы (не в смысле ее святости, а в том смысле, что — из пробирки: что-то вроде гомункулуса). Но Ландольфи все-таки не привязывали к Кафке с такой решительностью, как это делали с Буццати (так что последнему приходилось свою связь с Кафкой специально перед критиками опровергать). Ландольфи отрезал себя от Кафки так решительно и так рельефно, что этого невозможно было не заметить. Я имею в виду рассказ «Отец Кафки», написанный еще во времена «Меча». Возможно, Ландольфи раздражал мягкий, условный, «размытый» тон «Метаморфозы» — он наполнил «прием» зоологической отчетливостью, так что из раздавленного насекомого брызнула на читателя жижа, да еще подключил сюда родственную связь Кафки — опять же на грани допустимого. Так резко ему надо было отделить себя от «направления», от «общепринятого стиля», от «кафкианства». «Его творчество соткано из всевозможных «измов», — замечает Панкраци, — из сегодняшнего сюрреализма, из вчерашнего символизма (пишется в 1946 году), — и каждый раз Ландольфи умудряется остановиться за миг до того, как очередной «изм», очередной «прием» засосет его».
Внутреннее ощущение писательского долга у Ландольфи зиждется не столько на верности («направлению», «стилю», «принципу» или даже самой «правде»), сколько на отклонении: на «случае», на непредсказуемости, на «ложности хода».
Рассказы, трактующие эти проблемы (тайны писательства), собираются в начале 60-х годов под обложкой сборника «В обществе».
Наиболее красноречивый из них — «Слепая всевидящая богиня». Писательская фантазия — нечто вроде машины, выбрасывающей варианты по принципу случайного попадания. Но элемент глумления над писательской «фантазией» — лишь верхний слой коктейля. Ландольфи интересует аспект более глубокий и серьезный: разумный мир как частный случай безумия. Логика отклонения вообще — лейтмотив Ландольфи: число в рулетке может выпасть четыре раза подряд по той же вероятности, по какой оно не должно выпадать подряд даже дважды. Оно может выпадать бесконечно, потому что порядок есть одно из проявлений непредсказуемости. Машина, выбрасывающая «случайные слова» (из которых писатель, герой рассказа о «слепой всевидящей богине», составляет стихи), может «выбросить»... шедевр Джакомо Леопарди. Евг. Солонович с полным правом переводчика на «параллельный эффект» и в соответствии со склонностью Ландольфи к русским мотивам заменяет Леопарди Лермонтовым. Игровой пласт рассказа перенесен на русскую языковую почву без потерь, но надо помнить, что игра всегда подбита у Ландольфи черной каймой тревоги. Что насмешливостью у него всегда прикрыт абсурд. Что писатель, обработав очередной абзац, может вынуть револьвер, крутануть барабан, приставить дуло к виску и спустить курок. И это будет вполне «очередное дело», разве что в череде мыслей, «выкинутых» машиной из лотерейного барабана, мелькнет мысль об избавлении от бессмыслицы.