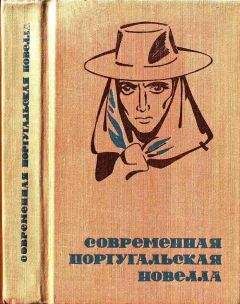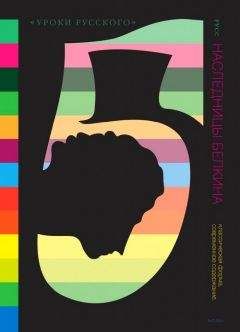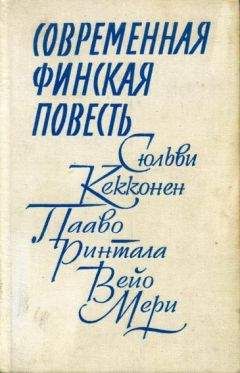Карлос Оливейра - Современная португальская повесть
— Святые мощи, — бормочу я и внутренне усмехаюсь: дешевая поэзия. Но не будем торопиться. Разве не дешево желание, чтобы плоть осталась безупречной даже после смерти? Я представляю себе династию патриархов, тела коих хранятся во глуби вод, словно клады, и из воды выступают надгробные плиты: Томас Мануэл (1600?), Томас Мануэл (1700?), Томас Мануэл (1800?), Томас Мануэл и снова Томас Мануэл… Несчастные рыбы, безупречно нетленные. И я повторяю настойчиво: «Мощи святых рыб».
— Вот именно. Слуга говорит, они были целехоньки.
Мария дас Мерсес пожимает плечами:
— Домингос, о господи.
— Ну и что? Насколько мне известно, Домингос — никакой не враль.
— Совсем не враль. Но что он мечтатель, так это точно.
— Мечтатель, он-то? С его практицизмом?
— И все-таки мечтатель. Наверное, тут раса роль играет или климат, не знаю. У нас была в коллеже девочка, тоже с островов Зеленого Мыса, она точно такая же.
Муж и жена обсуждают характер Домингоса, слуги. Это не просто проворный мулат, который у меня на глазах усмирил собак на площади перед церковью, но — как я вскоре узнаю — человек, детство которого истрепалось на набережных Миндело, где он служил гидом американским матросам, которым давал пояснения своим мягким вкрадчивым голосом. Это прошлое, заявляет Инженер. Природа одарила его разумом, вот он и сумел выжить.
— Но разве прошлое не оставляет следа? — спрашивает Мария дас Мерсес. — Я вот считаю, если кто-то был слугой, да еще где-то на острове, этого достаточно, чтобы наложить на человека особый отпечаток. Во всяком случае, чтобы вытерпеть эту сонную одурь, без воображения не обойтись.
Томас Мануэл подмигивает мне одним глазом:
— Влияние географического фактора на поведение человеческих особей.
— Только не надо шуток, — говорит она умоляюще, берясь за вязанье.
И муж, снова поворачиваясь ко мне:
— Вот-вот. И в Гафейру проникла социология.
Воцаряется молчание: супруга перебирает спицами, Инженер-Амфитрион вертит стакан в пальцах, пьет. Для гостя ситуация не из приятных, если бы не выдержанное виски — ему немало лет — и не любопытство — а оно еще старше, — никогда не покидающее рассказчика историй, где бы он ни находился. Коллекционер коллизий, неисправимый проныра, актер, предпочитающий второстепенные роли в уверенности, что так ему удобнее контролировать сцену, разве не смех? Смех сквозь слезы, потому что все, кто рассказывают истории, — не важно, из порочной наклонности или по профессии, — заслуживают хорошего взрыва хохота, когда полагают, что контролируют сцену. Ведь на самом деле их всегда подводит бумага, пугающее белое пространство, — и тут уж прощай, самонадеянность. И не спасет их ни хорошая память, ни синтаксис. Бьюсь об заклад, что Ксенофонт, хоть он и покровитель писателей-охотников, рыскал куда проворней по чистому полю, чем по папирусу. Внимание, Томас Мануэл заговорил:
— Надо мне будет как-нибудь на днях сказать ему, чтобы приготовил нам грог по тамошнему рецепту. — Речь, естественно, идет о Домингосе. — Пальчики оближешь.
(«А вечерние газеты с прогнозом погоды приходят с запозданием, как и тогда», — вдруг вспоминаю я, стоя возле окна и глядя на улицу и на дверь кафе. Мне хорошо известно, что стряслось с Домингосом: и как Инженер вырвал его без руки из-под гильотинного ножа фабричного станка, и как потом склеивал его по кусочкам. Все мне известно. Известно, какая смерть его ждет и даже как он был спасен от пагубы спиртного благодаря средству Томаса Мануэла, каковое, если не ошибаюсь, сводится к двум ингредиентам: взнуздать покрепче и не жалеть боков. Я знаю все, за исключением ближайшего прошлого, вчерашнего и сегодняшнего, которое таит от меня вечерняя газета. А недавнее прошлое тоже немаловажно).
— Теперь поставьте перед ним трактор, и он его вам разберет и соберет в лучшем виде. Но задал он мне работку, этот чертов Домингос. Я взялся за него, взнуздал покрепче, боков не жалел, и довел до кондиции. Мария, сколько времени пробыл Домингос у Форда?
— Полгода, — отвечает жена из своего угла. — Смотрите, Томас, дикторша, которая вам нравится…
— Передай ей привет. Так вот, за полгода практики, а то и меньше, он выучился обращаться с трактором, как ас. После трактора «ягуар» — детская игрушка, он делает с ним, что хочет.
Время от времени Мария дас Мерсес затягивается сигаретой в длинном мундштуке, потом кладет мундштук на край пепельницы, и пальцы ее снова заводят игру с шерстью. Машинально, как пальцы богомолки, перебирающей четки. Вязанье, утверждает она, снимает напряжение («перестаешь думать»); но, между нами, какая, в сущности, разница между четками и спицами? — думаю я, глядя на нее украдкой. Игра в мимикрию, профессор. Вязать, чтобы одеть бедных, молиться, чтобы заслужить вечное блаженство, — и то и другое снимает напряжение: облегчает душу, разгоняет тревогу. (Тема, которую надо развить, помечаю я у себя в тетради: благотворительность как элемент социального равновесия; далее: она же как стабилизатор иерархического порядка. «О необходимости существования бедных для достижения царствия небесного». Хотя нет. Не стоит тратить время на эту тему. Все это можно найти в катехизисе, профессор.)
Томас Мануэл рассуждает о Домингосе, и я связываю то, что он рассказывает, с рассуждениями о пользе определенного типа беззащитных людей и о пользе определенного вида птиц с подрезанными правильными перьями, пригодных для охоты. Это существа ущербные — как бедняки, как незаконнорожденные, — о них тоже можно было бы написать целый катехизис. Но нечего уклоняться от предмета, особенно в этот первый вечер, что я провожу в доме над лагуной. Будут еще вечера, в этой же гостиной, выходящей на террасу, или в погребе, где хранится вино и который именуется «bodegón»[22]. На следующий день (пожалуйста, ровно в шесть, хозяюшка) я вернусь в те места, спущусь в низину, на этот раз, чтобы пострелять гусей и куликов — под покровительством Инженера, подпись и охранная грамота которого защищают (защищали) меня от пуль лесной охраны. Ему сейчас (он ведь жив, живет себе где-нибудь) тридцать с небольшим, и он мечтает о том, чтобы труп его остался нетленным. Почему именно об этом — сейчас не время углубляться. Ответ придет позже, и в нем будет та горечь вызова, которая так ему свойственна: «Кладбища принадлежат всем, а лагуна — мне одному. Обожаю всяческую исключительность»[23].
Я прощаюсь с Марией дас Мерсес.
— До завтра.
— До завтра, — отвечает она.
— На дорожку? — спрашивает Инженер.
(Но я уже не слышу его. На площади появились два вездехода, на крыше одного — пластиковая лодка. Выходят охотники, выпрыгивают собаки.
«Флот подходит, флот подходит», — радуюсь я, стоя у окна.)
VI
Любопытство, то жгучее любопытство, что побуждает слушателя преданий и историй про чудеса касаться запретного, требовало, чтобы я пошел посмотреть дом над лагуной. После столь жестокого и столь запутанного рассказа, как рассказ продавца лотерейных билетов, самое естественное — прийти на место события, оглядеть с близкого расстояния покинутое жилье. Я чувствовал бы себя странником, который пришел издалека и которого встречает пустая коробка и безмолвие. Во дворе валяется забытый шезлонг, парусина истлела, разлохматилась. На веранде между огромными глиняными вазами — паутина, поблескивающая на солнце. Жужжанье слепня, крик болотной птицы. И снова покой, снова небытие.
Но в это время года дни кончаются внезапно (знаю по опыту), и до завтра нужно переделать уйму дел, взять напрокат лодку, купить лицензию, масса разных мелочей. Когда на лагуне открывается охотничий сезон, подготовка отнимает кучу времени, знаю по себе. Необходимо спокойствие, неспешная упорядоченность, чтобы охотиться с чистой совестью и гордо противостоять всем незадачам и плутням, а они — дело обычное, когда охотится много людей сразу. И тем более когда охотятся на лагуне — подчеркиваю особо; да еще в день открытия, вся орда рванется в наступление. Если только среди неразберихи не найдется нескольких толковых охотников — в этом случае удается все-таки добиться порядка. Будем верить в лучшее. И надеяться, что завтрашняя операция пройдет под знаком дисциплины и здравого смысла, пусть минимальных, иначе все может кончиться весьма печально, отчаянной пальбой по низколетящим воздушным целям либо побоищем. Ну и слово — «побоище».
Так что прежде всего подготовимся. Посещение заброшенного дома можно отложить еще на день, на год, на целую вечность, в нем уже нет особого смысла, то же самое, что бередить рану или воспоминание. Было бы весьма красиво выступить в роли приезжего, каковой со шляпой в руке пришел поклониться руинам дома, где некогда велись беседы о лагуне. Но и это тоже (во мне сейчас говорит лучшая моя сторона, охотничья) было бы всего лишь проявлением любопытства, жестом напоказ, быть может, эффектным, но решительно ничего не означающим, разве что склонность к позерству. Вот так. Стало быть, оставим-ка в покое дом и Старика с Егерем и выйдем на площадь, потому что путь наш ведет туда. На площади мы застанем Старосту, который возглавляет союз арендаторов лагуны. Теперь разрешение на отстрел дается им, а не Инженером.