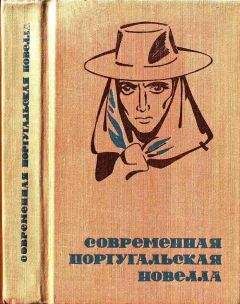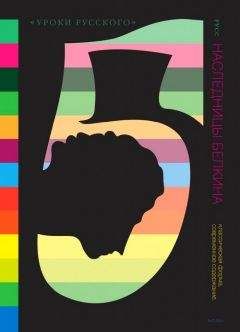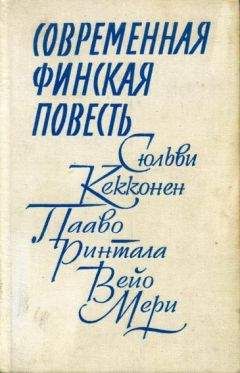Карлос Оливейра - Современная португальская повесть
— Привкус груши, — напоминает моя хозяйка.
— Действительно, какой-то привкус груши.
Та багасейра была единственная в своем роде. В ней была весомость, было медлительное тепло и еще терпкость почти до оскомины, оттого что она настаивалась на плодах груши-дичка. Сороменьо — так называются эти крохотные плоды, и мне никогда не пришло бы в голову, что они могут так отменно смягчать вкус водки.
Еще одна незабываемая вещь: фляга, радующая глаз своей уютно закругленной формой. Ремешки и никелированная крышечка лежат на ночном столике. Теперь мне хочется только одного: чтобы фляга — когда хозяйка заберет ее и принесет обратно — была вся налита основательной и покойной тяжестью сонной влаги. С хорошо настоянной водкой никакая лагуна не страшна. А как я заметил в разговоре с хозяйкой, в этом году дичи — хоть палкой бей, и то не придешь пустой. «Егерь говорит», — добавил я.
И она (оправляя капот):
— Егерь говорит то, что ему выгодно, чтобы раззадорить охотников. Вот что, по-моему, не дело, так это то, что сбавили цены на лицензии. Распродали их на аукционе за шестьдесят конто, а ведь при Инженере они никогда не обходились дешевле девяноста.
— Тем лучше. Охотники сэкономят денежки.
— Девяносто конто, — продолжала моя хозяйка. — В муниципалитете посмеиваются, а он запрет ружье в шкаф. Одна-две облавы с владельцами фабрики, рыбалка — другая, а девяносто конто плакали. Представляете себе, в какую сумму обходился ему каждый выстрел?
— Нет, — отвечаю я. — И сам он, конечно, не представлял. Но в жизни есть один только выстрел, который обходится дешево (последний, добавляю про себя, — выстрел самоубийцы). Вы разбудите меня завтра в шесть?
Девочка-служаночка входила и выходила, перетаскивая багаж. В первый раз — чемодан, во второй — резиновые сапоги с высокими голенищами, доходившими ей до груди, и, наконец, ружье и патронташ. Я сунул ей в ладошку мелочь.
— Купи себе леденцов. А если завтра мне попадется гусь, еще получишь. Договорились?
Хозяйка улыбнулась мне:
— Вы избалуете девочку, сеньор. Ну, что нужно сказать?
— Спасибо, — ответила служаночка и вся зарделась.
«Чего бы я ни дал, — подумал я, глядя на выходящую девочку, — за то, чтобы этой ночью мне снились горы леденцов, сверкающие, как алмазы, и пусть бы эти леденцы были ее самым главным и самым сокровенным желанием, чего уж лучше». «Да, чего уж лучше, — повторил я про себя. — Это было б чудесно для нас обоих, — и такая диковинка: сновидение и гусь, доставшиеся охотнику на пару с ребенком. Хуже, что это вроде приметы, близко к тому. Примета и есть. Какая слабость. На охоте приметы приносят несчастье».
Унылый скрип — от вращающегося колеса водокачки — сочится в сумеречном воздухе. Колесо это — незрячие часы. Часы с тугим заводом, приводимые в движение одним из тех мулов с завязанными глазами, которые никогда не ходили в стадо и, следовательно, не научились всем плутням, приписываемым преданиями мулам. Колесо перекатывается из минуты в минуту, оно скрипуче, но невидимо. И мул-часы тащится по кругу — земля, бадьи, — и круг этот претворяется в еще один круг, состоящий из звуков и бóльший по размеру, — пространство, вмещающее и предвечерье, и площадь, которую время от времени оживляет какое-нибудь событие: чей-то крик, фигура прохожего, автофургончик, который сейчас выезжает из-за поворота.
Препараты «Рекорд». Красные буквы скачут по рупору, установленному на капоте. «Рекорд» — красуется на стенах фургона и на задней дверце. Вперед, удалые ярмарочные просветители, и доброго сбыта для «Мазей — Глистогонных средств — Зубных паст — по Себестоимости» и для всего прочего, что не поместилось в рекламные надписи на автофургоне. Готовьте новые речи (только, если можно, не демонстрируйте заспиртованных глистов). Рациональное предложение: собеседование с жителями Гафейры на тему: «Ревматизм и мазь „Рекорд“», поскольку десятки стариков в этом прогрессивном краю маются «болотной ржавчиной» и лечатся пчелиными укусами. Помогает, но больно. И до новой встречи, кочевники. До новой встречи, бродячие наставники, глашатаи и специалисты по маркетингу, путешествующие в этом автофургоне с громкоговорителем и поднимающие свой дух с помощью рекламных восхвалений всеисцеляющих свойств препаратов «Рекорд» и звуков пасодобля, доносящихся с заигранной пластинки.
Одиноко созерцая деревню со своего наблюдательного поста, я чувствую себя кабинетным исследователем, воссоздающим образ исчезнувшего графства. Скоро снова увижу фургончик, уже на автостраде; он поедет в гору, к сосняку, и там в последний раз мелькнет на вырубке среди пней, промчавшись по земле, усеянной комочками смолы.
Вся эта гряда холмов задолго до того, как ее отдал в залог — и во власть неухоженных зарослей — слишком уж взыскательный агроном из рода Палма Браво, была захвачена другим представителем того же рода (первым, самым древним; он звался тоже Томас Мануэл и был главным королевским лесничим), и из-за нее судились последующие представители рода (немногословный фидалго, отец нынешнего; задира-адвокат, тот, глаза которого блестят слепящим блеском), и мало-помалу гряда эта стала зоной неприкосновенной — во имя предания и обычая. К ней с должным почтением относились деревенские священники. Равным образом и старосты, и нотариусы, и люди военные. Даже столь высокоученый каноник, как дон Агостиньо Сарайва, автор «Описания округи Гафейра». Лейрия, год MDCCCI.
Беру книгу. Вот она у меня в руках, вся высохшая, обряженная, как в саван, в пергаментную обложку и источающая благоухание святости. Когда лягу в постель, непременно начну ее перелистывать и, ведомый ею, обойду места погребенья, подземелья и дороги легионеров, относящиеся к эпохе римского владычества, и мне будут грезиться чудеса и анафемы. Словом, приобщусь к славе и к апокалипсису забытого уголка земли — вот этого, где я сейчас нахожусь, Гафейры, которую аббат-цистерцианец представил всего лишь в виде язвы, ниспосланной господом. И снова, в который раз, буду дивиться официальному вкусу и восхищаться любовью к мелочам, свойственной кабинетным ученым, когда они склоняются над мертвым прошлым, чтобы уйти от треволнений нынешнего дня. И буду повторять: прирученные ученые, прирученные ученые. Но все же в какой-то миг почувствую нежность к простодушному ревнителю antiquitates lusitanae[19] (я правильно написал?), уютно устроившемуся в своей безупречной прозе, в своем эльзевире прошлого века, который снова радует мне глаз красующимися на титульном листе «дозволениями», всеми, какие требуются, и набранной петитом надписью «привилегия его величества». Я понятно изъясняюсь, благосклонный читатель? Мой слог ясен, друг монах? А мы что скажем, почтенная хозяйка?
Отступаю на шаг, потягиваюсь.
Мы, как я уже заметил, тоже пребываем не в лучшем положении. Живем одиноко, видно сразу. Преклоняемся перед стариной. Именно по сей причине главная муравьиха, владелица пансиона для охотников, питает столь возвышенное почтение к страницам древнего фолианта и разделяет, сама того не ведая, мнения автора и его взгляд на Гафейру. Дело несложное. Стоит мне захотеть, я открою книгу наугад, и можно не сомневаться: в первых главах я встречусь лицом к лицу с легионами римлян; полистав еще, наткнусь на вереницу прокаженных, пришедших за болотной грязью из лагуны, «каковая исцеляет наверняка даже самые неизлечимые язвы» (слова хозяйки пансиона, а не Аббата); дальше мне попадутся развалины водолечебниц; и вновь появится она, назидательно подняв палец: «Роскошь и распущенность. Все хотят роскошной жизни, поэтому столько крестьян эмигрировали за границу…»
Ах, любезная хозяйка, иной раз мне сдается даже, что вашими устами-лепестками глаголет доктор Агостиньо Сарайва. Лишь он один стал бы порицать подобным образом крестьян, покидающих свои земли, и парней, щеголяющих в куртках из кожзаменителя и просиживающих вечера в кафе, глядя на экран телевизора. «Роскошь и распущенность…»
«Когда бедняк ест курицу»… Из узкой улочки, что выходит на автостраду, появляется старушка, она гонится за курицей. «Цып-цып…» — зовет старушка, делая вид, что припасла в переднике кукурузу для клуши. Но птица не прельщается посулами и, тряся хохолком, поспешными шажками выскакивает на открытое пространство площади. Когда бедняк ест курицу, гласит поговорка, дело не в роскоши и не в распущенности: кто-то из них болен. Курица не дается в руки, потому что покуда не чувствует себя больной. Может, старушка заболела?
Книга его преподобия аббата всей тяжестью давит мне на ладонь. Мне незачем открывать ее, чтобы представить себе мир, который меня ожидает. На одних страницах я буду читать о воинском лагере, на других о надгробной стеле Тибурция, Юного Римлянина, поэта-лекаря, на прочих — о галереях, жертвенниках, посвятительных надписях. Со страницы такой-то переходим к той эпохе, когда на сцене появляются мужи-землевладельцы.