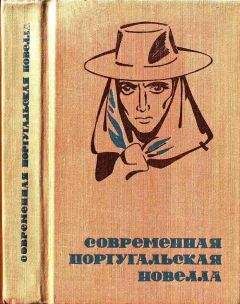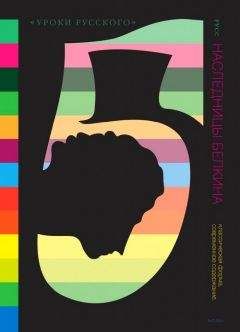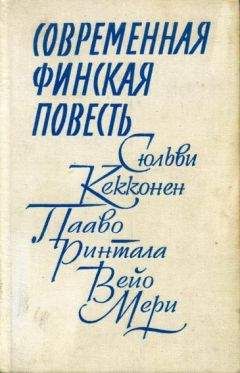Карлос Оливейра - Современная португальская повесть
«Ну и жизнь», — стонет моя хозяйка; и снова мне не разобрать, остался ли этот голос у меня в ушах с того — совсем недавнего — времени, когда добрая сеньора беседовала со мной в этой комнате, присев на край кровати, или с более давних времен, когда она вот так же наведывалась ко мне и, присев на том же месте, в том же черном атласном капоте, обмахивала рукою грудь, потому что путешествие вверх по лестнице стоило ей одышки. И вся колыхалась, колыхалась. Уже и в ту пору голос у нее дрожал, словно лепестки шелестели в необъятной груди.
— Ну и жизнь… Если бы Инженеру не втемяшилось держаться так за эту лагуну…
И тут у меня в памяти зазвучала очень отчетливо одна фраза Томаса Мануэла, которую я записал (либо не записал, надо бы поискать) к себе в тетрадку: «Если до сих пор лагуной распоряжалась моя семья, не мне от нее отказываться». Знает ли об этом благоразумная хозяйка пансиона? Судя по всему, знает; и все с той же сочувственной своей безмятежностью ухватилась бы за эту сентенцию (за эту декларацию принципов, говоря точнее), дабы ею объяснить безрассудные прихоти, которые привели Инженера к гибели. Она стала бы сравнивать наши времена с минувшими, помянула бы восьмерых фидалго-благодетелей (Священное писание его преподобия аббата для нее значит столько же, сколько сонмище вымышленных народом призраков для лотерейщика), и ее толкование было бы безупречно верным, образцовым, исполненным милосердия. Попробуем воспроизвести ее стиль:
«Эти речи, сеньор писатель, идут еще от его отца, человека вспыльчивого, но обходительного, и от деда, дона Томаса, а он был таков, что от немногих его слов любого ученого человека в дрожь бросало. Инженер очень их почитал. Очень-очень. Но (и тут немного понизить голос) всем своим прихотям в отношении дома на лагуне он давал волю лишь для того, чтобы когда-нибудь попасть в книги и красоваться там в одном ряду с предками. Уж поверьте, сеньор. Думаю, не было у него другой причины для таких речей. Сдается мне, что он, когда их вел, чувствовал себя ближе к своим предкам, я понятно говорю? (Пауза, в течение которой она грустно разглаживает капот на коленях.) Наделал он ошибок, тут ничего не скажешь. Много натворил безрассудств. Целое состояние ухлопал на охрану лагуны, но ведь намеренье-то было неплохое. Когда хотят почтить усопших, по-моему, любое преувеличение прощается».
Быть поближе к мертвым… повторять их слова, одурачить враждебное время. «А в итоге — одиночество», — сказала, сама того не ведая, моя хозяйка. И ведь подумать, кто говорит такое. Она, одинокая из одиноких, примостившаяся на краешке кровати, как бы изъятая из времени, бедняжка, как бы парящая над ним — в такой степени, что она видится мне не в номере пансиона, а на пустом и обширном помосте, сколоченном из бесконечных досок, пахнущих желтым мылом. Ее фигура, фигура матроны, на оголенности помоста кажется крохотной, детской. Святый боже (или святое причастие), ну и жизнь. Главная муравьиха, толкующая об одиночестве других и поглаживающая свои колени, забывшие о ласках, и этим движением как бы прощающаяся со своим пухлым телом, полным сокровенных жизненных сил и ожиревшим. Или же (как написал бы романист — горожанин и блюститель литературной моды) женщина, которая тоскует по детству, хочет догнать детство, принявшее образ девочки-служаночки, или же прячет тайну, как знать, вдавливает ее в глубь себя самой обеими руками и всей печалью смирения. Как знать, вот именно, как знать. Конечно, таков уж мир хозяйки деревенского пансиона: номера, которые нужно сдать, весенние дни, пахнущие желтым мылом. Фразы наугад, вечно одни и те же, уходящие во вневременье. «Усопшие, усопшие…» Словно Гафейра, эта деревня, проспавшая столько лет, не пережила менее чем за сутки преображающей катастрофы.
— Господи, — заводит она снова, — втемяшилось же этому человеку попасть в книги.
И эти слова ее при всей их искренности тоже вневременны. Они могли быть сказаны сегодня (кажется, так оно и было), а могли прозвучать издалека, из уст фигурки, которая затерялась в бесконечности и беседует со мной, сидя на кукольной кроватке где-то на краю пустого помоста.
— Один только господь бог, сеньор писатель, один господь бог знает, как хорошо он мог бы жить, если б захотел. Фабрика предоставила ему коттедж в городе, но он ничего знать не хотел, кроме лагуны, — ничегошеньки. И все из-за этой мании — попасть в книги.
А я в ответ ей из оконной ниши:
— Может, и так. Впрочем, у него на то было полное право.
Она мне:
— Что вы, сеньор, в ряду прочих Палма Браво? Они все были люди почтенные.
Я:
— Знаю, знаю, здесь в книге сказано.
Она:
— Никогда до нынешних пор в этом семействе не случалось ни малейшего скандала. Вы мне не верите?
Снова я:
— Верю. Точнее, я думаю: а что написал бы этот человечек, живи он сейчас?
Она:
— Какой человечек, автор книги?
Я:
— Он самый. Я уверен, что он обо многом умалчивал, любезная хозяюшка. Более чем уверен.
Она в ответ:
— А может, это самое лучшее, что он мог сделать. По моему суждению, есть несчастья, которые на бумаге сущей грязью покажутся, и только. С вашего разрешения, сеньор писатель.
Я, вспомнив Старика-Однозуба:
— Не показались бы, моя благоразумная хозяюшка, если б у аббата было столько мужества, блеска, веселости, чувства справедливости и прочего тому подобного, сколько выказал лотерейщик, когда рассказывал мне сегодня про оба преступления, и если б аббат включил в эту историю собак, души чистилища и народные предания.
Она, схватившись за голову:
— Лотерейщик, пресвятая дева.
Я:
— А что? Отныне все эти истории — часть общей истории лагуны.
Она:
— Вот еще. А лотерейщик — тварь неблагодарная. Злыдень, он же, если прикусит себе язык, помрет от отравления. Неужели хоть кто-то поверит россказням такого мерзавца? Да он и сам, поди, не верит. Сеньор писатель, нужно быть невеждой и еретиком из еретиков, чтобы приплести неприкаянные души к такой простой истории, как эта. — И с глубоким вздохом: — Ох, ох… Молчи, роток.
Но роток не послушался, как я теперь вижу. Самое большее, тон изменился. Сокрушенно и даже сочувственно — именно так: сокрушенно и сочувственно — она доказывает, что, представив Томаса Мануэла преступником, мстящим собственной жене за гибель слуги, лотерейщик ставит под сомнение его мужские качества или — простите за выражение — его мужские привычки.
— Так вот, если и водился за Инженером грех, так только один: слишком ветреный был, вечно, как говорится, бегал за юбками, простите за выражение.
— Логично, — соглашаюсь я.
Речь моей хозяйки была безупречно справедлива и убедительна. Но ведь и ответ лотерейщика, — ответ с ловушкой, как всегда, — был бы не менее убедителен. Только это: кто много блудит, тому все опротивеет, то есть: «Кто много блудит, сам подстилкой будет». Как аргумент — сойдет. Правда, толковать эти слова можно двояко, но в них также есть последовательность и, более того, заковыка. Силен, Старик. Особенно когда речь заходит об Инфанте.
Моя хозяйка:
— Если бы было преступление, как он говорит, если бы кто-то убил ее (Марию дас Мерсес) и бросил туда (в лагуну), разве тело застряло бы на дне? Разве оно не всплыло бы сразу, скажите на милость? А вскрытие? Для чего тогда делаются вскрытия? Что они все, ошибались? — и, покачивая головой, заключает: — Но Инженер тоже хорош, томить бедную сеньору в такой дыре.
Поставим здесь точку. Незачем моей хозяйке снова вызывать из небытия образ владычицы лагуны, которая томилась в доме мужа, как в ссылке, весь бесконечный день напролет вязала, ненавидела собак (а что она их ненавидит, все говорили в один голос), курила, пекла пирожки.
— Жизнь неплохая, да без счастья, — вздохнет в заключение хозяйка. — А моя разве лучше?
«Молчи, роток», — думаю я вслух.
Никто не выходит из кафе, никто туда не входит.
IV
Именно там (в кафе) и пребывает сейчас моя хозяйка. А не сидит у меня в комнате на краю кровати или на огромном, теряющемся вдали помосте, ведя беседу, и не покачивает безутешно головой. «О господи, господи», — наверное, говорит она, слушая измышления, которыми Старик прожужжал охотникам все уши.
Нас разделяет ширина улицы, идущей через всю деревню и выходящей на площадь и на шоссе первой категории за номером не помню каким; и нас разделяет промежуток времени — а сколько, по сути? Но если присмотреться, можно обнаружить следы доброй сеньоры в этой комнате, а именно: том «Описания» на столе, тюфяк, слегка примятый в том месте, где она сидела (хотя она оправила его, уходя), и складка, которую ее ноги оставили на ковре, пока мы с ней беседовали.
И еще здесь лежат ремешки от фляги. Крышку коей она отвинтила, а самое флягу положила поверх покрывала, дабы наполнить ее водкой — если можно, той самой багасейрой[18], которой я уже угощался в прошлом году и привкус которой незабываем.