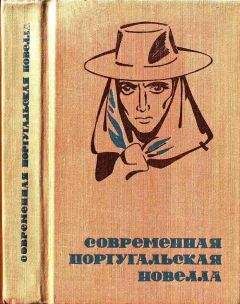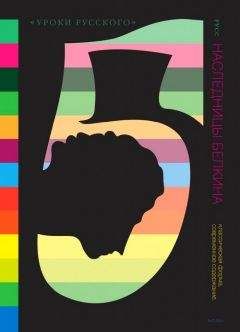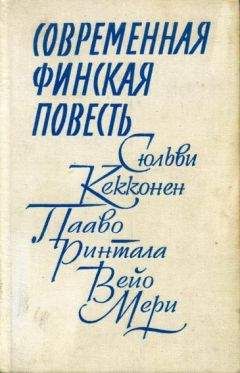Карлос Оливейра - Современная португальская повесть
Книга его преподобия аббата всей тяжестью давит мне на ладонь. Мне незачем открывать ее, чтобы представить себе мир, который меня ожидает. На одних страницах я буду читать о воинском лагере, на других о надгробной стеле Тибурция, Юного Римлянина, поэта-лекаря, на прочих — о галереях, жертвенниках, посвятительных надписях. Со страницы такой-то переходим к той эпохе, когда на сцене появляются мужи-землевладельцы.
«Сии места привлекли к себе взоры двора и королевства радением нескольких честных мужей, кои заселили оные и охраняли собственными силами, и прежде всего то были мужи из дома Палма Браво».
У меня такое чувство, словно мое чтение прерывает упоенный голос хозяйки:
— Восемь фидалго-благодетелей…
И тогда я, в десятый раз изучающий родословную этих вознесшихся землевладельцев, из которых ни один, возможно, не был фидалго, но все при крещении были наречены Томас Мануэл, откладываю книгу и начинаю подсчеты. Добавляю к восьми Палма Браво, упомянутым в хронике, отца и деда Инженера: получается десять человек, и все они в неистовом бешенстве возникают из небытия. И пускай. Они бушуют в сосняке (через который проезжает автофургончик с громкоговорителем) и, кто бы там они ни были, фидалго или нет, размахивают протоколами сатаны и ораторствуют. Я добавляю к ним Инженера — одиннадцать. «Одиннадцать», — бормочу я. Нечетное и неделимое число, цифры-близнецы, вытянувшиеся в струнку. Два стоящих стоймя копья, замыкающих список Палма Браво.
Следуя взглядом за автофургоном по спиралям горной дороги, я блуждаю вдалеке, в тех ночных часах, которые некогда мы проводили вместе, Томас Мануэл Одиннадцатый и я, когда пили в гостиной с окнами на лагуну и сотни лягушек вели разговоры где-то внизу. И в то же время над заветными водами мне видится надпись, выведенная крупными золотыми буквами на ленте, повисшей в облаках:
AD USUM DELPHINI[20]
Вот так. Как на старинной гравюре.
V
Ad Usum Delphini было бы неплохим девизом, вполне уместным над главным входом в дом. Лучше всего на арке ворот выложить из цветных кирпичиков.
Дом был возведен Томасом Мануэлом, дедом Инженера, после пожара, который вошел в историю, как «пороховое землетрясение». «Пороховое» — потому что он начался с того, что взорвалась печь, в которой три угольщика, состоявшие в поденщиках у Палма Браво, изготовляли боеприпасы для противников либерального правительства; «землетрясение» — потому что, почувствовав толчок, вся деревня высыпала на улицу в уверенности, что настал конец света и земля вот-вот взлетит на воздух. В этом приключении сыграл, по-видимому, известную роль некий бродячий адвокат с горящими глазами и колючей бородкой, каковой скитался по горам и долам верхом на коне в качестве тайного эмиссара принца дона Мигела (поскольку в письменном столе у Инженера хранилась мигелистская прокламация). Ну и бог с ним, с беднягой. Допускаю, что он тоже из числа душ чистилища, о которых толкует лотерейщик, но не думаю, чтобы от него было много вреда. В жизни он очень устал, умер истощенный, изглоданный чахоткой. С каким лицом предстал бы он миру живых? С горящими глазами и колючей бородкой?
Томас-дед предал забвению пепелище и принялся перестраивать под жилой дом бывшие конюшни, которых пожар не коснулся. Дом вышел меньше старого, такое огорчение. Два этажа, каменный порог в несколько ступеней, выходящий в парадный двор, ветхая терраса, уже без ступенек, но с тремя огромными напольными вазами, торчащими по трем углам, как часовые. «К чему ступеньки, если нет детей?» — вопрошал Инженер, когда решил переделать большую гостиную в студию с продолговатыми окнами, выходящими на эту самую террасу. И таким образом низина еще решительнее ворвалась в дом, а дом прижался к ней еще теснее. И сделался еще унылей в зимнюю пору, когда струи дождя прыгали по террасе, исхлестанной ветром.
Студия. Здесь все как в тот вечер, когда мы познакомились: медная чеканка на стенах, старинное ружье над камином. Я, охотник в гостях, Мария дас Мерсес на своем обычном месте (сидит на полу, вокруг журналы: «Гороскоп», «Флама», «Эль»[21]), муж, развалившийся в кресле, свесивший руку, чтобы дотянуться до стакана виски, стоящего на полу. Тихая музыка — включен проигрыватель.
Болтаем о всякой всячине: охотничьи истории (здесь-то мне и подарили драгоценный «Трактат о птицах, Сочинение любителя-практика»), погода, путешествия, кулинарные рецепты. Перебираем имена приятелей, людей из моего мирка и из их мирка, открываем в каждом из мирков общих знакомых: принято считать, что такие открытия сближают. Имена, фамилии; те живы-здоровы, те забыты; разговор переходит на новую тему: смерть. (По всей моей тетради разбросаны упоминания о смерти, высказывания такого рода:
«Смерть? Единственное, о чем всегда умалчивают гороскопы». Мария дас Мерсес.
«Прекрасной смерти не бывает, разве что смерть Христа или смерть от родов». Она же к концу другого вечера.
«Вот если бы хоронить прямо в лагуне!» Томас Мануэл.)
— Серьезно, — объявляет Инженер. — Если я когда-нибудь напишу завещание, потребую, чтобы меня похоронили именно в лагуне.
Мария дас Мерсес вздергивает бровь. То ли не поняла, то ли сочла неостроумным.
— Что за черный юмор, Томас.
— Никакого юмора. Куда пристойней лежать в болоте, чем в яме с червями.
— Бр-р, — говорит она. — Вы охмелели.
— Я в превосходной форме. — Томас Мануэл смеется и, словно чьи-то стихи, декламирует: — «Схороните меня в лагуне глубоко-глубоко, чтобы всякая рыбья мелочь меня не изъела».
— Хватит, по-моему, чудовищная безвкусица, — настаивает Мария дас Мерсес, а сама включает телевизор. Регулирует яркость, но звука не включает, сейчас она вернется к себе в угол, где на полу лежат подушки. Уже вернулась. Теперь внимательно глядит на экран. У нее перед глазами проходят религиозные шествия и военные парады. — Кроме всего прочего, такие похороны стоили бы адова труда, — добавляет она, не отрывая взгляда от экрана.
— Не понимаю почему. Хоронить в лагуне так же несложно, как в любом другом месте, — Томас Мануэл поворачивается ко мне. — Ведь есть же на Амазонке деревни с подводными кладбищами. В чем же дело? Достать несколько скафандров…
Мария дас Мерсес сразу прерывает:
— Опять про могильщиков в скафандрах? У меня от этого в конце концов кошмары начнутся, Томас.
Муж приветственно поднимает бокал с виски.
— Могильщики в скафандрах. Разве не потрясающе?
Мы оба смеемся, она — нет. Смерть, великое безмолвие и картины одиночества нагоняют страх на Марию дас Мерсес. Зимой она редко спускается к болоту (уверял меня падре Ново), и, скорее всего, именно поэтому: тусклая вода, рябая от дождя либо ветра, ассоциируется у нее в воображении с ненаселенным миром.
— Что меня восхищает, так это гордость этих рыб, — теперь Инженер обращается ко мне, не к ней. — Знать, что началась агония, и собрать остаток сил, чтобы выполнить свою последнюю волю. Еще виски?
Я соглашаюсь — но только самую капельку. Виски и рыба — одно с другим не очень вяжется.
— В данном случае — вяжется. Эти рыбы — особые.
Томас Мануэл наливает мне виски по классическому способу барменов: быстро переворачивая закупоренную бутылку, из которой он вытащит пробку в самый последний миг, чтобы алкоголь не оседал на дне.
— Эти рыбы сами выполняют свою последнюю волю.
Он не выпускает бутылку из рук. Ему видится строгое надгробие, выступающее из воды, а вокруг плавают серебристые усачи; простота, величие, а в черном иле болотного дна — останки рыб, которые предпочли похоронить себя заживо, а не достаться на съедение собратьям.
— Вот это я называю породистостью, крепким характером и мудростью. Ведь только у больших рыб хватает мужества хоронить себя заживо. По крайней мере, так рассказывают рыбаки.
А жена, не отводя глаз от телевизора:
— Вот оно что. Слушайте больше, что рассказывают рыбаки, много чего наслушаетесь.
— Уже наслушался. И знай, что никогда в этом не раскаивался. В лес иди с егерями и псами, на лагуну иди с рыбаками. Лучшего правила я не знаю, что там ни говори.
«Может, это пословица? — комментирую я про себя. — А может, одна из многих мыслей, заповедей или прихотей, унаследованных от Томаса-Основоположника, от Томаса Третьего, Четвертого или Восьмого, от Томаса-Деда или кого-то еще из них? Сомневаюсь, чтобы это знала даже молодая жена. И даже сам он, Томас Одиннадцатый, почитатель рыб, которые добровольно уходят в изгнание, чтобы оградить себя от унижений, приносимых смертью».
— Честное слово, эта история не выходит у меня из головы, — Инженер говорит тихо, размеренно. — Один мой слуга видел тут как-то две таких рыбины, их достали с самого дна протока Верга-Гранде. Ни следа тления.