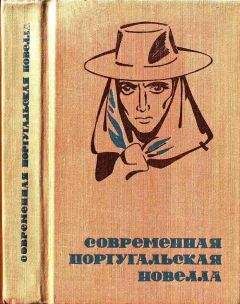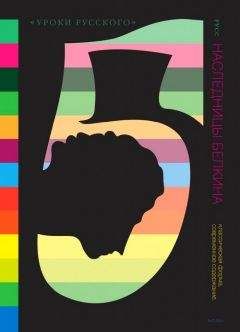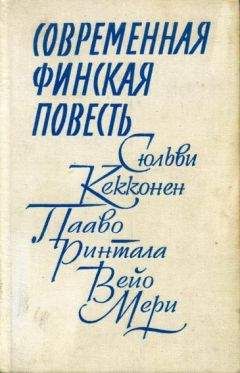Карлос Оливейра - Современная португальская повесть
Но собаки — не только память о хозяине, напоминание о нем, они еще — и его подпись, ибо копируют и общественное его положение, и пороки. Взять хоть болонок с бантиками, у них точно такое же выражение, как у тискающих их размалеванных старух. Или полицейских овчарок республиканской гвардии, ненасытных и кровожадных. Или дворняжек с их неизменной хитростью и живым воображением. Или взять легавого пса, принадлежащего Егерю; как уверенно он себя чувствует возле заляпанных грязью сапог хозяина, его заплатанных хлопчатобумажных брюк. Каков хозяин, таков и пес — сколько раз говорилось.
Как я мог убедиться в кафе, покуда Однозубый Старик повествовал о преступлениях на лагуне, легавый Егеря был псом без претензий, и в покорном его взгляде сквозили вечный голод и опасливость смиренного существа. И однако, у него были признаки стоящей собаки, это бросалось в глаза. Крепкие лапы неутомимого бегуна, безупречный хребет, массивная костистая голова. Красивая голова, сказать по правде; несчастная, но красивая: бесценное хранилище чутья, которому верно служит раздвоенный нос. Учуяв куропатку, этот пес застывает в стойке, весь напрягшись и вытянув в струнку хвост, он словно продолжение ружья своего хозяина, и ноздри — как два ствола, не знающие промаха. Да, с Егерем он чувствует себя уверенно, с ним он — часть целого.
И точно так же, когда смотришь на громадных псов Инженера (и, несомненно, на двух сеттеров, которые только что вошли в кафе с юной амазонкой), самое занятное — классовый инстинкт собак из богатого дома, их демонстративное презрение к беднякам и заигрывание с богачами, даже незнакомыми. Нюхом улавливают запах нищеты, это ясно. И взглядом — неуверенность в себе. (Любопытно, как повели себя оба сеттера в кафе при встрече с легавым Егеря.) Общая закономерность отношений проста и в собачьем обществе: дружба или вражда зависят от общественного положения, которое им даровано, ибо все они — носители запахов, свидетельствующих о прозябании либо процветании хозяев. Прав был Инженер, когда не доверял тем, кто недолюбливал его собак. И тем более прав был я, когда заинтересовался его историей, потому что именно собаки заставили меня присмотреться внимательнее к чете Палма Браво в тот день на площади; и они же (по мнению Старика) последними отказались от лагуны. Не зря же пришлось мне сегодня проглотить столько историй про призраков и собак без одной лапы.
— Когда дом заколотили, псов кто-то увез на фабрику. Но они ведь такие сильные, да еще тосковали по хозяевам, что же удивительного, если при первом же удобном случае сбежали обратно на лагуну. Не вижу тут ничего таинственного, что бы у нас ни болтали. — Сообщение хозяйки пансиона.
— У этих страшилищ нутро ядовитое. Их хоть на самую крепкую цепь сажай, полижут — она и распадется. — Егерь.
— Дьяволы сущие, а не собаки, то на кровле дома покажутся, то с берега на воду скалятся. — Старик-Однозуб.
— Можно сказать, за отсутствием членов семьи Палма Браво, они взяли на себя управление лагуной. Тоже не худо, право, так. — Хозяин кафе.
— Поговаривают о призраках. — Снова Лотерейщик.
— О собачьих призраках. Появляется тут пес трехлапый, не иначе как Домингос, мулат, кто же еще? — Егерь.
В этой круговерти душ чистилища облик Инженера стерся, «ищи свищи», как было мне сказано, когда я приехал в Гафейру, и он покинул Лорда и Маружу на произвол судьбы, нести кару за бесчинства, которые вершил он сам и его предки. И если сейчас Томас Мануэл действительно не в Лиссабоне, одно из двух: либо «сверзился вместе с машиной с какого-нибудь обрыва…» — гипотеза хозяина кафе — …либо «смылся за границу» — Старик-Однозуб.
Я соглашался и соглашаюсь со всеми. Лотерейщик сыпал проклятиями, Егерь заключал его периоды своим «аминь». Они пускались в описания, задавали риторические вопросы с ехидными подначками, с подковырками ради чистого озорства. Когда Старик широко разводил руками, обе ленты лотерейных билетов (заменявшие ему епитрахиль во время этого священнодействия) взлетали вверх а друг, верный приспешник, либо поддакивал, либо кивал головой: аминь, аминь. Возможно, они и сейчас еще предаются этому занятию — к великому негодованию моей хозяйки и на потеху охотникам. Но, как видно, девушке в лосинах амазонки все это прискучило. Она вышла из кафе, сеттеры бегут рядом, они ей под стать, вся троица — чудо спокойной красоты.
Вот она идет, курит, выпуская вверх струйку дыма, безразличная, ухудящая все дальше и дальше от ненавидящих взглядов, которые, возможно, сверлили ее в кафе. Война есть война, выкликает — если он все еще выкликает — Старик. И в безумной непомерности этого сражения — деды против внуков, фидалго против фидалго, и вдобавок мулат-оборотень — сеттеры с образцовым экстерьером неуместны. Юная амазонка правильно сделала, что ушла. Собаки для жителей Гафейры — только прирученные волки, и ничего более; собачья привязчивость, собачья верность — эти понятия здесь не в ходу. О собачьей привязчивости узнают из детских книжек с картинками, а Лотерейщик вряд ли имел честь разбирать их по складам, к великому своему несчастью; и в этих книжках с картинками вряд ли найдется место для Лорда и Маружи, они ведь немецкие овчарки, а не песики с картинки. Для картинок больше подходят медлительные сенбернары, рыщущие в заснеженных горах с флягой коньяка, прикрепленной к ошейнику, или отважные спаниели, вытаскивающие беспечного малыша из бурной реки. Всему свое место — в этой области и в любой иной. Колли и сенбернары — в детских книжках, немецкие овчарки — в пособиях по линчеванию. (И в данный момент сеттеры — при девушке в лосинах амазонки.)
К тому же пса с хозяином связывают не одни только сантименты. Есть еще служебные качества, право собственности, демонстрация власти, и вот доказательства (из записей в моей тетради):
а) пример одного из самых ранних Палма Браво, не знаю которого именно, утверждавшего, что по собачьему лаю можно определить, насколько заслуживает почтения дом. Подчеркнуто: по собачьему лаю;
б) приор Бенжамин Таррозо, заявлявший, что предпочитает охотиться наудачу, со слугой, чем брать с собой собаку, пусть с самым тонким нюхом (он опирался на Бергсона и, если не ошибаюсь, трактовал инстинкт как первичную форму преданности);
в) притча о непослушной дочери, которую поведал мне Инженер, заключив ее мудрыми словами своего дядюшки доктора Гаспара, несчастного отца: «Мужчина может отдать все, кроме собак и лошадей». И наконец,
г) определение Домингоса: человек, обращавшийся с машинами, словно с животными, и управлявшийся с собаками, словно с машинами. «Точность требует особого инстинкта, а у этого малого таковой имеется. Если вдуматься, собачья верность измеряется быстротой, то есть точностью реакции на возбудитель», — комментарий, который я услышал от Томаса Мануэла (воспроизвожу приблизительно) в тот день, когда Домингос промывал двигатель «ягуара».
Я мог бы добавить еще. Страницы и страницы заполнил я воспоминаниями о лагуне и даже выписал себе в тетрадь отрывки из старинных книг, сидя за этим столом. Но вот теперь, когда я приезжаю из Лиссабона с тетрадью в чемодане и собираюсь, как бывало, вносить в нее записи, с удовольствием и тщательно все обдумывая, оказывается, что прежнего мира как не бывало, и я стою у окна, ошеломленно опустив руки. Нет больше Томаса Мануэла, который служил мне живой моделью, был пищей для моего любопытства. И нет Марии дас Мерсес. И Домингоса, который обернулся трехлапым псом. Никогда больше не возвратятся часы полуночных бесед в доме над лагуной, часы, скользившие мягко и весомо — с мягкой терпкостью джина, как говорил я тогда.
А потому, если я вознамерюсь приписать к моим тогдашним заметкам малейший комментарий, малейшее слово, я подобно аббату, автору «Описания», превращусь в рассказчика, повествующего о мертвых временах. Мне неизбежно придется говорить о развалинах, я буду смешивать изречения и пословицы, приписывая их сыну в то время, как они принадлежат отцу либо прапрадеду, словом, кому-то из беспорядочной толпы бунтующих призраков. А если для полноты картины я выдумаю надпись вроде «Ad Usum Delphini» — еще того хуже. Окажется, что я почти что пою в один голос с докторами богословия, во главе коих стоит его преподобие достопочтенный дон Агостиньо Сарайва, мой предшественник в изучении Гафейры. Miserere mei[26].
VIII
Снова собаки. (Это собачьи края, господа.) Подняли лай на заднем дворе, где их оставили охотники.
Возбужденные поездкой и видом ружья и патронташа, поняв — и каким образом! — по костюму хозяев, по их особой заботливости, куда они едут, собаки всю дорогу мечтали о следах в зарослях, о норах, из которых тянет живым и теплым духом, о крыльях, которые вдруг захлопают по воде. И поэтому они протестуют, сидя взаперти во дворе пансиона, беспокоясь все сильней и сильней, по мере того как близится вечер. Они зовут хозяев, пытаются напомнить о себе и без промедленья отправиться в путь. Они ведь тоже охотники, у них есть своя гордость, и в каком-то смысле в этом сборище они представляют своих хозяев.