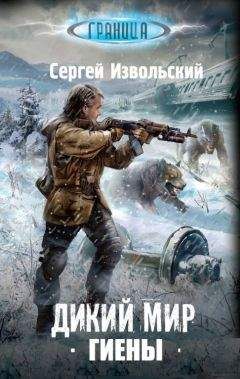Елена Катишонок - Против часовой стрелки
А настоящую смерть Коля встретил один…
Ира слушала и ждала, что еще скажут о Коле, но такие же слова рокотали по радио и печатались в газетах: две свежих, со знакомым запахом типографской краски, лежали на столе, а рядом — папиросная коробка с бело-голубыми горами, и на фоне гор дыбился черный силуэт всадника. Конь пятился, а всадник нетерпеливо наклонился вперед. По черной полоске внизу тянулись угловатые буквы «КАЗБЕК». Странно: почему Казбек, а не Казбич, — ведь в книге был Казбич? Чтобы не видеть тревожной картинки (что там впереди, пропасть?), Ира перевела взгляд. На краю стола была прибита аккуратная жестяная табличка с номером, точь-в-точь почтовая марка на конверте; у стены стоял книжный шкаф с длинным рядом одинаковых томов. В простенке между высокими окнами висели портреты Ленина и Сталина, а ближе к шкафу, соблюдая корректную дистанцию, и местный вождь, но с такими же, как у Сталина, усами. Два главных портрета висели лицом друг к другу, причем Ильич по сравнению с преемником казался настоящим франтом, со своим неизменным галстуком в горошек, традиционным костюмом и совсем уже буржуазной жилеткой — обед из трех блюд. Сталин, которого и представить было немыслимо без наглухо застегнутого френча, выглядел аскетом и смотрел не в глаза Ленину, а куда-то поверх головы, где только он один видел светлое будущее и все остальное, что скрыто от глаз простых смертных, но попутно скользил благосклонным взглядом по лысине предшественника и собранию своих сочинений, а Казбич-Казбек с рафинадными горами его не интересовал. И то: мало он гор на Кавказе видел, что ли? Масляная краска на портретах и корешки книг чуть лоснились.
Совсем чужие люди продолжали говорить чужие торжественные слова, но в этом кабинете, где все было пронумеровано: и люди, и мебель — где висели портреты вождей, один из которых тоже был первым, только сегодня уже непонятно, какой именно, — здесь были уместны только такие слова. Они были как будто бы посвящены Коле, но могли быть сказаны о любом другом погибшем, потому что самого Коли в этих словах не было.
Хотелось как можно скорее добраться до того городка, где он в последний раз видел небо, осенние ветки деревьев, и это желание резануло по сердцу особенно остро.
— …Особенно остро, — продолжал говорить Второй, — в Городе стоит жилищный вопрос. В связи с этим, — он взглянул на Первого, потом на портреты, но те были поглощены собственным немым диалогом, и он снова повернулся к собеседнице, — в связи с этим мы хотим знать, как у вас обстоит дело с жильем?
Он закурил, оставив коробку «Казбека» открытой, отчего всадник, встав на дыбы, завис над невидимой бездной. Ирине тоже захотелось курить, но не для того же ее сюда позвали. Она рассказала про кинотеатр, поглотивший ее довоенную квартиру, и горло перехватил спазм, потому что снова увидела темный прямоугольник на месте книжной полки, полуразломанную стенку, из которой штукатурка висела клочьями, как стеганая подкладка из распоротого пальто, и выговорила пересохшим ртом: «А теперь я у матери живу».
Секретари заговорили снова, теперь уже наперебой, так что стало понятно: беседа подошла к концу. Первым протянул руку Первый, за ним Второй, и она опять ощутила теплую признательность к этим чужим людям. Торопливо пошла по пурпурной ковровой дорожке, стесняясь своих изношенных туфель, и освобожденно вздохнула на твердом мраморном полу вестибюля; быстро вышла на улицу.
Мать и сестра так истомились от ожидания и тревоги, что Ирина отбросила первый, совершенно инстинктивный импульс, ничего не говорить. Сказала коротко: про Колю; выражали соболезнование.
— И все?!
Пожала плечами, сбрасывая туфли с отвыкших ног. Спрашивали, как живу. Про квартиру. Какие условия.
— Ну?!
— Так что: «ну». Обыкновенно живу. Так и сказала: живу у матери.
— Квартиру, что ли, предлагали? — недоверчиво предположила Тоня.
— Предлагать не предлагали, — Ирина ругала себя, что начала рассказывать: сестра не отстанет, — трудно в Городе с квартирами. Да и что мне, жить негде? Не на улице…
— Отказалась, — убедилась Тоня. — Господи, Ирка, в кого ты простофиля такая?! Кто ж сейчас от квартиры…
И началось. Сестру и раньше нелегко было унять, а в тот день… Матрена подняла бровь, но во взгляде читалось скорее одобрение: она устала от одиночества, а теперь было с кем поговорить, не в пустой дом заходила. Вместе с тем Тонина правота была очевидна и для нее: квартира — она «исть не просит», не говоря об очевидной истине: дают — бери; так ведь Ирка всегда была простофилей.
А Тоня продолжала с негодованием:
— Квартира сейчас — это… — и задохнулась в поисках сравнения. В голове навязчиво крутился и отвлекал англичанин со своим домом-крепостью, которого так часто поминал Федор Федорович, направляясь к кушетке с пледом и газетой, да чтó в нем, в этом англичанине?! В любой момент пойдет и купит себе новую крепость, если мошна позволит; а не сможет купить, так снимет. Здесь каждый был сам себе англичанин до 40-го года, а сестра как была простофилей, так и осталась. Взять хоть эту фразу: «Так другому кому нужней», это квартира-то!..
— А брат вернется, — звенел высокий, беспощадный Тонин голос, — брату места и не будет?
Андрюшу ждали неистово, исступленно: ни одной весточки не пришло ни от него, ни о нем всю войну, и только недавно — почти одновременно с Ириным возвращением — карточка по почте: «пропал без вести».
Вот это «пропал без вести» Матрена отказывалась понять. Как это — «пропал без вести»?! Куда он мог пропасть, человек из плоти и крови, рожденный ею в муках, выросший во взрослого мужчину? Его крестили в моленной; свивали; она кормила его грудью и потом держала «свечкой», чтоб отрыгнул лишнее молоко; а макушка у него была рыжеватая, и зубки шли так болезненно, что засыпал только на руках. Как — «пропал без вести»?! Андря не расставался со старшим братом, а как они кувырком летели с дачного забора!.. Мотяшка-то ничего, а этот располосовал всю рубашонку, да что рубашонку — спину!.. И оба сразу побежали в огород рвать горошек; если б он спиной не повернулся, Матрена не сразу бы увидела. И молчал!.. Разве живой человек может «пропасть без вести», как пуговица в стирке; вот уж бздуры!..
При словах «живой человек» Тонины глаза наполнялись слезами. «Как ты смеешь! — гневалась мать, — кабы убили, то так и написали бы, а то… Вернется!»
Андрюшу продолжали ждать, как ждали отца, и никто не был готов к появлению Надежды с ребятишками, похожими на два крепких желудя.
…Сколько раз после ее внедрения Ирина вспомнит о походе в райком, сколько раз пожалеет о своем отказе? Ничего не изменилось от посещения райкома, разве что домашнее пчелиное слово «ячейка» перестало принадлежать Коле и Герману, а превратилось в одно из газетных слов. Ничего не изменилось, но и визит ей вспоминать не придется, ибо никогда не забывала, а жалеть… Жалеть тоже не жалела: нельзя вернуть сказанное слово, как нельзя проклясть тобой рожденное дитя. Ее всегда удивляло, когда говорили: «слово и дело», потому что для нее эти понятия были равноценны, одно могло обгонять другое, но не исключать и не перечеркивать. Может быть, оттого она никогда не отличалась разговорчивостью.