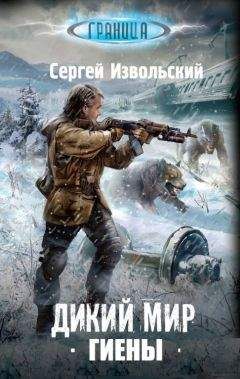Елена Катишонок - Против часовой стрелки
Поиски прошлого.
Если удавалось, на поиски отправлялись с Лелькой. Тайка бдительно следила, чтобы встречи бабушки и внучки происходили как можно реже, но все же они случались. И на чулочную фабрику поехали вдвоем. Пешком прошли Воздушный мост, соединяющий не речные берега, а светский Город с Городом индустриальным. Мост выложен был такими же серыми булыжниками, как Старый Город и Московский форштадт. Девочка задавала совершенно неожиданные вопросы, и нельзя было просто ответить, нужно было рассказать. Рассказывая, бабушка вспоминала больше. Нужно было многое объяснять. Как это — «крутить папиросы»? Мама тоже всегда крутит и зачем-то мнет перед тем, как закурить. А шелковые чулки — это капроновые? Или вообще эластик — «безразмерные», как их называют, только что появившееся чудо: по виду — на трехлетнего ребенка, а, оказывается, дамские. И что такое «больничная касса»?
Именно Лелька заметила на торце дома старую рекламу. Блондинка с безмятежным лицом держала в руке синюю баночку, а над баночкой радугой повисли строчки:
«От крема „Нивея“
Станет кожа новее!»
Ни война, ни дожди, ни время — а прошло лет тридцать! — не вытравили до конца старую краску, хотя банка выгорела на солнце, кожа блондинки, хоть убей, новее не выглядела, а локоны поседели; так и пора уж.
А больше ничего не изменилось: точно такая же круглая синяя жестянка с белой надписью „NIVEJA“ лежала в кармане Лелькиного пальтишка. В нужный момент она заполнялась влажным песком, и лучшей битки для «классиков» не существовало в природе. Лелька призналась, что очень трудно дождаться, пока мамин крем кончится, и, чтобы ускорить процесс, она тайком спускала жирные белые кляксы в унитаз.
Голубой бланк постепенно заполнялся. Память — причудливый механизм, и никогда не известно, кто или что приведет его в действие. Реклама знаменитого крема вдруг помогла вспомнить фамилию немца-кондитера из Петербургского предместья: Нивельштраух.
Кондитерская следовала сразу за табачной фабрикой. Вновь обретя фамилию, кондитер ожил в памяти, как и его узкая лавка, пеналом уходящая в глубь здания, скромная витрина, три круглых мраморных столика для случайно забредших любителей кофе и штруделя, и полутемная кухня с высокими потолками, где всегда вкусно пахло тестом и пряностями. В углу кухни находилась кладовая с припасами, а на лестнице черного хода молочница оставляла каждое утро бутылки с молоком и сливками; и как удивительно, что теперь все это уместилось на одной строчке казенного бланка.
Долго бродили по Старому Городу в поисках парфюмерного магазинчика из 20-х годов, которого тоже ждала пустая строчка в пенсионном листке. «Давно! — удивилась девочка, — а памятник Свободы уже стоял?»
— Что ты! Памятник еще нескоро построят… А то двадцать первый год был, когда меня взяли духи продавать, только-только Гражданская война кончилась!
Лелька напряженно молчала, потом спросила:
— «Гражданская война» — это когда военные с гражданскими воюют?
Ирина вовремя не улыбнулась. А потом улыбаться совсем расхотелось: что ж, так и есть: военные с гражданскими, гражданские с военными… Во втором классе историю не учат.
— Когда все со всеми воюют. Не разбирают, кто военный, кто гражданский.
На самом деле, проскользнула мысль, трудовой стаж и надо бы отсчитывать от Гражданской войны, от Ростова-на-Дону. Родной город обоих родителей, тот неуютный, голодный и выморочный Ростов вспоминать было все же… весело:
Купите бублички,
Горячи бублички,
Платите рублички,
Да поскорей!
И в ночь ненастную
Меня, несчастную
Торговку частную,
Ты пожалей.
Бойкая песня захлестнула, как весенний разлив, не один Ростов, но и Одессу, и весь юг, если не всю Россию. Жалостные слова настолько не вязались с бесшабашным ритмом, что, как бы ни сокрушалась торговка о своей судьбе, пожалеть ее было никак не возможно.
Ирочка частенько бывала такой торговкой — то вечерами, то по воскресеньям, когда особенно охотно «платили рублички». Случалось, платили и керенки — было бы за что платить. Она ездила в дальние станицы за мукой и за постным маслом, а потом пекла пирожки — то с капустой, то с требухой, и ходила по вечерним улицам с лотком.
Ночь надвигается,
Фонарь качается,
Толпа вливается
В ночную тьму,
А я, несчастная
Торговка частная,
Всю ночь ненастную
Одна стою.
Пел весь Ростов, пела и она, легко импровизируя и так меняя оригинальные слова, что теперь уже не могла бы сказать, как петь правильно? Да это было не важно: пирожки раскупали быстро, и она спешила домой.
Не всегда это были пирожки — бывало, что и папиросы: Мотя с Андрюшей крутили и набивали гильзы, а сестра шла торговать. Курево шло нарасхват, особенно с вокальным сопровождением:
Отец мой пьяница,
Над рюмкой чванится,
К бутылке тянется
Который год…
За вокал платили дополнительно, охотно и щедро. Очень уж курьезно выглядела милая, скромно и опрятно одетая барышня, звонко поющая:
Я неумытая,
Тряпьем прикрытая…
С удовольствием останавливались послушать про отца-пьяницу и прочие душераздирающие перипетии жизни обаятельной торговки:
…А мать пропащая,
Сестра гулящая,
А я курящая,
Смотрите — вот!
В этом месте Ирочка картинным жестом подносила ко рту папиросу; зрители смеялись и быстро раскупали весь лоток. Певица торопилась домой, где, кстати, обреталась и настоящая ее сестра, которая тоже гуляла, но не далее, как под стол пешком.
Нет, такое не впишешь. Даже из песни ясно: «торговка частная», а частникам пенсии не начисляют. Да и невелик труд с лотком ходить по улицам, мало ли было ей подобных! Самое трудное было втиснуться в поезд, куда лезли все такие же, как она, только взрослее, а значит, сильнее и опытнее. Могли отпихнуть — и отпихивали. Домой с пустыми руками не придешь: дома есть нечего. Ждать следующего поезда… А когда он придет? С отчаянием цеплялась за ускользающий поручень — главное, не отпустить — а ноги, всегда легкие, не поспевали за набирающими ход колесами…
Но в станицу — легко, самое трудное — назад.
И самое страшное: руки заняты.
В руках мешок.
Не у нее одной — у всех: за то их и называли мешочниками.
И хорошо, если мешок: мешок уронишь, так поднять можно. А если бутыль с маслом?.. Такое сокровище несешь, как младенца: не дай Бог уронить.