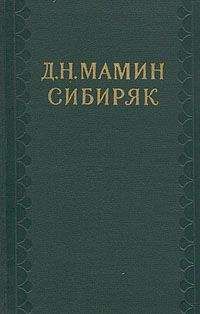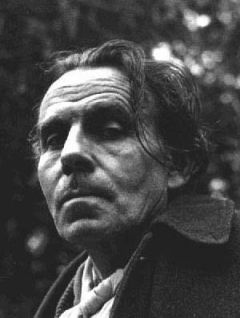Марк Хелприн - Солдат великой войны
Мир разрывало. Разрыв прошел по многим семьям, но в конечном счете захватывал все. Со смертью многих мужей и сыновей умирали все мужья и сыновья. В хаосе и страдании законам Божьим предстояло проявиться во всей их красе, жестокости и несправедливости. Если Алессандро суждено выжить, ему предстоит начать новую жизнь, но он не был уверен, удастся ли ему даже подумать о чем-то новом, если не останется ничего знакомого, никого из тех, кого он любил.
Алессандро оглядывал простирающуюся перед ним равнину, словно слепец, которому вернули зрение не в маленькой комнате клиники, а на вершине господствующей над равниной горы, откуда видно полмира: зеленые пологие холмы, плывущие облака, река, сосны, далекая линия гор. В лесу слышалось только щебетание птиц, но до него доносилась музыка, которую он вызывал в памяти, и смешивалась с шумом ветра в деревьях. Округлые контуры облаков, дуги, которые в небе выписывали ласточки, солнечные блики на реке рождали сонаты, симфонии, песни.
В полной безопасности, окруженный зеленью леса, под синевой неба, Алессандро наблюдал, как мимо сгустками цвета проносятся птицы, но что-то за горизонтом заставляло колыхаться воздух, не давая грезить наяву. И хотя Алессандро чувствовал приближение конца — конца привычного мира и присущей ему красоты, смерть семьи и свою собственную, — он верил, что даже в надвигающейся ночи основополагающие для него понятия набросят сверкающие мантии и останутся живы. Запоет то, что всегда молчало, и, погибнув, возродится вновь, поднявшись из бездны ввысь. За страданием обязательно следует искупление. В этом Алессандро не сомневался.
* * *Неделя пути привела к тому, что Энрико похудел и начал проявлять норов. Когда они пересекали Тибр, Алессандро с трудом удавалось его сдерживать, потому что жеребец знал дорогу и прибавлял шагу после каждого знакомого поворота. Почувствовав, что конюшня у Порта Сан-Панкрацио совсем близко, на вершине Джаниколо, где он родился и помнил тамошний воздух, Энрико вынес Алессандро на вершину второго по высоте римского холма, словно не заметив подъема.
Однажды, вернувшись домой после нескольких недель на пыльных дорогах, Алессандро не известил о своем прибытии выстрелом из револьвера. На этот же раз просто постучал в дверь.
Его встретила мать, и он заметил, что от присущей ей энергии не осталось и следа. Она повела его в приемную и плотно прикрыла дверь.
— Почему ты приехал? — прошептала она.
— А что такого? Я не могу приехать домой?
— Твой отец нездоров. Ему нельзя волноваться. Тебя исключили?
— Как меня могли исключить? — спросил Алессандро, удивляясь, что мать, не имевшая никакого образования, может не понимать, что исключение соискателя докторской степени — затяжной процесс, похожий на то, чтобы умертвить дерево, а не срубить его, и занимает не менее пяти, а то и десяти лет. — А что с ним?
— С сердцем неважно, — ответила мать, прижав руку к своему сердцу. — Ему надо месяц отлежаться и не подниматься по лестницам.
— Он сможет вернуться к работе?
— Да.
— Как он там будет, ведь контора так высоко?
— Доктор говорит, что он сможет подниматься туда, когда выздоровеет, но только медленно.
— Насколько серьезна болезнь?
— Он поправится. И он продолжает руководить фирмой. Каждый день в половине шестого приходит Орфео, чтобы записать указания отца и написать письма.
— Орфео!
— Да.
— Я думал, он не вернулся.
— Отец расскажет тебе, что произошло, но я хочу знать, почему ты приехал так рано.
— Университет временно закрылся из-за войны, — солгал Алессандро.
— Мы не воюем, — возразила мать.
— Половина студентов — французы и немцы, как и многие профессора, да и многие итальянцы ушли в армию. Война коснулась всех и вся.
Он не счел нужным упомянуть, что и сам поступил в военно-морской флот.
Спальня родителей занимала большую часть второго этажа, из полдюжины окон открывался вид на Рим, при необходимости комнату согревали два камина, установленные в противоположных концах. С кровати виднелись Апеннины, залитые вечерним светом, город лежал внизу, там и сям среди изгородей и крыш высились пальмы, а сами крыши напоминали озера из охры и золота. У северной стены, напротив дивана, окруженного столиками и книжными полками, стоял большой письменный стол.
Дверь оставили приоткрытой. Алессандро вошел и остановился у порога. Отец спал, сложив руки на животе.
— Папа, — прошептал Алессандро. Глаза старика открылись.
— Алессандро.
— Почему ты не в постели? — спросил Алессандро, заметив, что кровать не разобрана и отец укрыт толстым шерстяным одеялом.
— Я просто немного вздремнул. И полностью одет. — Действительно, Алессандро увидел, что отец в рубашке, воротнике, галстуке, брюках, подтяжках и жилетке.
— А зачем тебе быть одетым?
— Я не болен, просто отдыхаю. Терпеть не могу валяться в постели весь день. Скоро придет Орфео, чтобы я продиктовал письма ему и инструкции, потому что я продолжаю работать. Когда он приходит, я надеваю пиджак. Не хочу, чтобы он видел меня без пиджака.
— Он тридцать лет видел тебя без пиджака.
— Не в моей спальне.
— Поэтому книги убраны, бумаги сложены, а все карандаши поставлены в карандашницы?
— Нет, это сделали раньше на случай, если я умру. Мне было совсем плохо. Я потерял сознание, и меня привезли домой в карете «Скорой помощи».
Алессандро смотрел на отца, отказываясь представить его себе таким беспомощным.
— Я хотел, чтобы мне не мешала всякая ерунда. Хотел, чтобы последнее, что я увижу, был золотой свет, заливающий Рим, снег на горах, гроза, а не карандашница. Унеси их отсюда.
— Ты уже выздоравливаешь.
— Неважно. Унеси.
Алессандро собрал со стола карандашницы.
— Эта красная некрасивая. — Он поднял одну. — А вот черная прекрасна — как ручка «Уэджвуд» в конторе. — Он вынес карандашницы в коридор и вернулся.
— Знаю, — кивнул отец. — Черная — из набора. Я купил его в Париже в семьдесят четвертом. Принеси ее обратно и поставь на стол. — Алессандро принес. — Действительно, красивая. — Я оставил только ее, потому что… Уже не помню почему, но набор смотрелся не очень. Ручку в карандашнице держать нельзя, чернила высыхают.
— А с остальными что делать? Которые в коридоре?
— Те только захламляют комнату. А почему ты дома?
Алессандро повторил свою выдумку про временное закрытие университета.
— Это ложь, — сказал отец.
— Мне велели тебя не расстраивать.
— Ложь меня всегда расстраивает.
— Я завербовался на военно-морской флот.
— Куда? — вскричал отец.
— На военно-морской флот.
— На военно-морской флот? И давно ты на службе?
— С прошлой недели.
Адвокат Джулиани приподнялся на подушках и натянул на себя одеяло.
— Ты дурак! Зачем?
— Это азарт, но решение здравое.
— Отказаться от звания профессора, чтобы завербоваться на военно-морской флот Италии, которая наверняка вот-вот вступит в войну! — вскричал отец. — Это решение здравое?
— Позволь мне закончить. Прежде всего профессором я могу стать лишь теоретически. Начинать придется лектором, и меня будут ненавидеть на кафедре, потому что я на многое смотрю иначе, чем они.
— Тогда почему же тебя взяли?
— Чтобы потом выгнать.
— Алессандро, на военную службу накануне войны поступают только те, кто хочет умереть. Примера Элио Беллати тебе недостаточно?
— Папа! — Алессандро назидательно поднял указательный палец. — Я ценю свою жизнь. И не люблю людей, которые летят на пламя войны затем, чтобы сгореть. Я этого делать не собираюсь.
— Не собираешься?
— Разумеется, нет. Ты думаешь о локальных войнах, вроде последней. Это — другая. Ты читал про сражения, про потребность в живой силе, про то, как быстро она расходуется. Во Франции и Германии идет мобилизация. Асквита[34] переизберут, если он начнет ее в Англии. Если Италия вступит в войну, мобилизация начнется и у нас. С учетом моего возраста и физического здоровья меня прямиком отправят в окопы, где уровень смертности чудовищный. Военно-морской флот — совсем другая история. На флоте целью является оружие, тогда как на суше — человек, который это оружие несет. Понимаешь? Если Италия не вступит в войну, я буду служить на флоте в мирное время. Правда, я убежден, что мы в этой войне участие примем. Я иду на риск, на который другие не решаются. Предпочитают надеяться на лучшее, но, если все обернется к худшему, они окажутся в ужасном положении. Именно потому, что я не хочу умереть в бессмысленной войне, я впервые в жизни поступил расчетливо. Пришлось наступить на горло собственной песне, но я на это пошел. Возможно, ради того, чтобы сохранить эту песню живой.