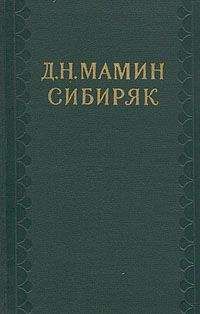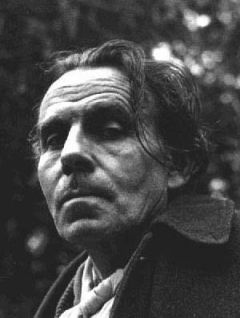Марк Хелприн - Солдат великой войны
— Камбринал Окситанский, Окситан Локситанский, Локситан Окситанский.
* * *Обед подали на втором этаже, где обретался отец Алессандро. Еду, тарелки, столовые приборы принесли в гостиную с маленьким камином. Обычно в это время года Джулиани обедали в саду, но теперь, даже если бы у адвоката не было проблем с сердцем, их загнал бы под крышу необычно холодный и на удивление ветреный октябрь. В кафе уже занесли столы и стулья, улицы опустели, листья начали засыпать дороги на Джаниколо. И хотя ноябрь еще мог напомнить о лете, октябрь слишком походил на зиму. Прохожие на темных улочках у площади Навона видели оранжевые солнца, пылающие в магазинах и ресторанах: в печах сгорала ароматная древесина яблони и дуба.
— Кто хочет со мной в Германию? — обратился Алессандро сразу ко всем, когда они принялись за суп. Мать, отец, Лучана и Рафи, который только что пришел с холода, продолжали есть, не поднимая головы. — Кто хочет со мной в Германию? — повторил Алессандро, словно подумал, что его не услышали.
Наконец Рафи поднял голову.
— Никто, — ответил он, отправляя в рот очередную ложку супа.
— Почему нет? — спросил Алессандро с характерной для него настойчивостью.
— Никто и никогда не хочет ехать в Германию, Алессандро, — стал объяснять Рафи. — Особенно итальянцы. Тебе это должно быть известно. А зимой людей уж тем более не тянет в Германию. Не забывай и о том, что Германия воюет.
Лучана весело рассмеялась.
— Я же не предлагаю ехать туристами. — Алессандро раздражало, что его лучший друг превратился в раба младшей сестры.
— А что, предлагаешь вторгнуться туда завоевателями? — спросил Рафи.
— Возможно, так в самом скором времени и будет, но я не об этом. Я еду в Германию, и подумал, что кто-нибудь составит мне компанию, но, похоже, я обращаюсь к отшельникам, так что поеду один.
— Алессандро, будь осторожен, — воскликнула мать. Он ее не услышал, потому что она говорила это всегда, что бы он ни делал, куда бы ни собирался.
— Неплохая мысль, — заметил Рафи.
— Какая? — заинтересовался адвокат Джулиани.
— Вторгнуться в Германию.
— Все, что для этого нужно, — послать Орфео, — хихикнула Лучана.
— Негоже пинать безумную лошадь, — повернулся к ней отец. — Он прожил тихую, спокойную жизнь, и страдания ему выпали несоразмерные.
— А почему он сошел с ума, папа? — спросила Лучана.
— Не знаю.
— Алессандро, — продолжила она, — а зачем ты едешь в Германию?
— Посмотреть рафаэлевский портрет Биндо Альтовити.
— Ехать в Германию, чтобы посмотреть одну картину? — удивился Рафи.
— Ехать в Антверпен, чтобы посмотреть вмятину на судне? — огрызнулся Алессандро.
— Нам за это платят.
— Может, и так, но вот о чем не стоит забывать.
— О чем же?
— Вмятина — она вмятина и есть.
* * *Хотя Алессандро купил билет второго класса, на вокзале ему сказали, что спальные вагоны второго класса более не используются.
— И что же мне делать? — спросил он. — Я не хочу сидеть целые сутки, чтобы прибыть в Мюнхен похожим на мешок с грязным бельем. Я заплатил за спальное место.
— Ничего не могу поделать, синьор, — ответил кассир. — С удовольствием отправил бы вас первым классом…
Алессандро приободрился.
— …но в первом классе все занято.
В душе Алессандро уже сдался, но тут его ждал новый сюрприз.
— Есть только одно свободное место, но, боюсь, тогда вам придется делить купе с пассажиром противоположного пола.
— Вы имеете в виду женщину? — спросил Алессандро, его сердце учащенно забилось.
— Да, — кивнул кассир, проглядывая листы. — Купе на двоих. Пустует до Венеции, а потом одно место занято женщиной. Но я не могу посадить вас в одно купе с женщиной.
— Я готов помучиться. — Алессандро надеялся, что женщина, которая сядет в Венеции, не албанская вдова с опухшим лицом, тремя кожными заболеваниями и собакой, которую постоянно тошнит.
— Я не могу посадить вас в купе, в котором едет женщина, — упорствовал кассир.
— Почему? Всем нужно спать… мужчинам, женщинам, всем.
— У меня будут неприятности.
— Теперь — нет. — Алессандро продолжил голосом, который задействовал при редких выступлениях в театре «Барбаросса». — Этот поезд идет в Мюнхен. Мюнхен в Германии. Германия воюет с Францией, Англией и Россией. Сотни тысяч людей умерли, миллионы еще могут умереть. Вы думаете, по прибытии поезда в Мюнхен кто-то из администрации узнает по запаху в пустом купе, что кассир в Риме перепутал пол пассажира? Вы думаете, кого-то это будет волновать?
— Мы говорим о правилах, — возразил кассир, — и мы говорим о немцах.
— Но вся страна воюет! — взмолился Алессандро. Позади него стояла семья из Калабрии, транзитом едущая на север. Двое из трех сыновей держали деревянные клетки с курами: необычными — цвета глины, тощими, мускулистыми курами. Бойцовыми курами Катанзаро. Кассир заерзал, чувствуя, что время поджимает.
— Я бы хотел знать, синьор, вас действительно интересует комфортабельные условия поездки или привлекает идея насильственной и случайной близости? — побагровев от негодования, взорвался кассир, но, учитывая, что семья из Калабрии возмущалась все громче, Алессандро загнал его в угол. Однако ответил правдиво, потому что слова «насильственная и случайная близость» вызвали приятное возбуждение во всем теле.
— Честно признаться, идея провести шестнадцать часов наедине с женщиной в тесном купе с постелью завораживает меня…
Одна из кур громко закудахтала.
— Хорошо, — перебил его кассир, — но помните, я вам билет не продавал. Я продал его женщине, которая приходила вместо вас. Четвертый путь.
Когда Алессандро садился в седло, его чувства обострялись до предела, а вот поездка на поезде вгоняла в тибетский транс. Верхом на Энрико ему приходилось постоянно принимать решения и делать выбор, он двигался как танцор, то пригибаясь, то отклоняясь, а в поезде он превращался в манекен, у которого живыми оставались только глаза, неотрывно следящие за ландшафтом, маленькими кусочками мира, которые мелькали за окном. Даже входя в огромное здание вокзала с железными воротами, чем-то напоминающими изящные решетки испанских кафедральных соборов, он уже начал ощущать, как у него поднимается настроение.
Вокзал напоминал вазу с пышными цветами. В золотистом свете сыроватого октябрьского утра цвета казались на удивление насыщенными, а лучи солнечного света словно выискивали пылинки, плавающие под сводчатым потолком. Свет падал и на подразделение усталых солдат с запыленными вещмешками и сумками. Винтовки со штыками торчали среди них, точно столбик на винограднике. Их форма в золотистом свете, нечто среднее между желтым и красным, сияла, как тюльпаны, а когда солдаты склоняли головы от усталости и держали каски в руках, их вид брал за живое даже куда-то спешащих прохожих. Магазинчики и рестораны по боковым сторонам центрального зала были заполнены людьми, они что-то покупали, куда-то с этим бежали или поднимали стаканы и чашки, закрывая при этом глаза. Носильщики с недовольными физиономиями катили поскрипывающие тележки, по большей части пустые. Одна особенно запомнилась Алессандро: огромная, из дерева и стали, на ней стояла одинокая оплетенная бутыль с вином.
Прежде чем выйти на перрон, Алессандро купил полдесятка рогаликов и две бутылки фруктового сока. После того, как его билет прокомпостировали, он миновал барьер и зашагал вдоль сверкающих вагонов. Пришел рано. Лишь несколько человек двигались по перрону, внезапно исчезая, когда добирались до нужного вагона, словно мухи, проглоченные рыбой. Все шли с правой стороны, вдоль поезда, за исключением одного старика в белом костюме, который плелся слева у пустого железнодорожного пути. Сделав несколько шагов, он останавливался, тяжело опираясь на трость. Поднимал голову, смотрел сначала на свет, льющийся снаружи, потом на почерневшую от сажи крышу, наконец, на сам поезд. Упирался взглядом в перрон и трогался с места.
В левой руке старик с превеликим трудом тащил небольшой чемодан. Алессандро предложил помочь.
— Вам придется идти со мной десять минут, — предупредил старик, — а так вы доберетесь до своего вагона за минуту.
— Я люблю ходить медленно, — ответил Алессандро, подхватывая чемодан.
— Вы знаете, почему в старости человек ходит медленно? — спросил старик.
— Нет, — честно признался Алессандро.
— Потому что с возрастом он получает дар торможения. Чем меньше времени остается, тем больше ты страдаешь, тем больше чувствуешь, тем больше замечаешь и тем медленнее течет для тебя время, хотя и мчится вперед.
— Не понимаю.
— Еще поймете.
— Времени меньше, но больше торможения, трудностей, вязкости. Время растягивается. Правильно?