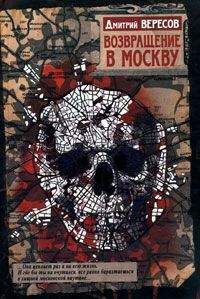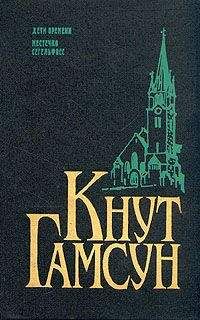Энтомология для слабонервных - Качур Катя
– Что значит – выдал, бабушка? – Улька начала тереть варёную морковь к селёдке под шубой, которую Лея в её исполнении страстно любила.
Только Ульяне Лея разрешала называть себя бабушкой. Все остальные внуки, их жены, их дети-правнуки могли величать её только по имени.
– Выдал, значит, заранее выбрал семью, договорился, посчитал доход, – объяснила Лея. – Натан Гинзбург был средним сыном мельника в Виннице. Мы к тому времени снова вернулись туда. Зажиточный, красивый, с животиком, старше меня на десять лет.
– С животиком разве красиво? – перебивала Улька.
– Запомни, девочка моя, богатый мужчина должен быть с животиком. Это вы все дохлые нищеброды. А Натан меня баловал. Покупал красивые платья, жемчуга. Целовал в шею. Говорил, что она у меня масляная. – Лея погладила себя по белой, не тронутой старением шее и, опережая Улькин вопрос, добавила: – Не в смысле жирная, а в смысле гладкая, сливочная, литая.
– Это Натану вы столько стихов написали?
Пухлая, побитая временем тетрадь со стихами жён и матерей Гинзбургов отныне была передана Ульке, и она красивым геометрическим почерком вносила туда свои творения. Большая часть записей в этой тетради принадлежала Лее. Выведенные пером, размытые от слёз и постоянных переездов, её буквы распадались в разные стороны, будто тянули на разрыв слова и строки. В манере письма чувствовалась мятежная Леина натура. Капризная, революционная, идущая вразрез с устоявшимися взглядами. Все её стихи были посвящены мужчинам.
– Натану, бабушка? – Улька повысила голос и тронула морковной рукой засыпающую Лею.
– Я ж говорила, ничего ты не поняла, дурочка, – обречённо махнула ладонью Лея. – У Йозефа были такие нежные пальцы…
Тот лес умел воспеть любви сонет,
С веков принцесс хранились его тайны.
Нам был подарен этот миг случайно,
Как благосклонность высшая планет.
Там, где не видно неба за листвой,
Где поволокой тины лес подёрнут,
Где буйство тел хранится влажным дёрном,
Стыдливо берегущим образ твой…
Где полчища дремучих лопухов
Пробились сквозь глазницы на забралах.
Где заросли следы былых подков
Зелёной шёрсткой из травинок бравых…
Есть камень серый. Полуисточён
Водой холодной, что как кровь застыла.
Если ты будешь там (чем шутит чёрт?),
Прочти на камне: «Я тебя любила…»
* * *
У Ульки слипались веки. Уложив летним дачным вечером детей, накормив и переодев избалованную Лею, она блаженствовала в постели и листала незатейливые стихи. Так это был Йозеф… Светловолосый, голубоглазый, с нежными пальцами. Это его она обожала всю жизнь. Его, а не Натана. Леиного мужа Улька не застала. Он умер за несколько лет до того, как они с Аркашкой поженились. Бэлла рассказывала, Натан был бесконечно добрым. Любил жену до одури, прощал наперёд всякую блажь. Они часто ворковали по-русски, но, когда ссорились, переходили на идиш и лаялись так, что казалось, вот-вот кинутся в драку. Ушёл из жизни Натан глупо. Вешал картину на стену, упал с лестницы, оторвался тромб, смерть. Лея, которая по поводу каждой царапины на своей и чужой коленке причитала «вэй из мир», на сей раз не произнесла ни слова, не проронила ни слезинки. Почему? Это осталось загадкой. Они прошли такой долгий путь, вырастили троих сыновей…
Когда началась война[36], Натан работал на оборонном заводе, а потому имел бронь. На фронт ушли сыновья. Борис, окончивший медицинский, стал полевым врачом, связист Ефим с пехотой дошагал до Европы. Младший Даниэль не вернулся. Улька видела его фотографию на военный билет. В отличие от своих тёмненьких братьев, Даниэль оказался блондином с вьющимся чубом. О боже! Неужели? Улька тёрла глаза, борясь со сном. Неужели Лея встречалась с Йозефом так долго? Неужели младший сын не от Натана?
Этот дождь – песнь моих глаз,
Этот стон – гром моих губ,
Без грозы тысячу раз
Мир мне не люб.
Травы все спят тишиной,
Тайны все знают цветы.
Он такой, да не такой
Нежный, как ты…
Мы вдвоём и никого,
Солнце лишь, небо с листвой…
Слышу я, да не его,
А голос твой…
Ах, Лея. Грозовая, повстанческая, неуловимая. Державшая тайну в себе до глубокой старости. Как-то ночью она разбудила измотанную работой и бытом Ульку и, не дождавшись, пока та окончательно проснётся, горячим шёпотом начала сбивчивый рассказ. Йозеф погиб на войне, как и его сын Даниэлик. А перед их уходом на фронт Лея с ними обоими поссорилась. С Йозефом – от невозможности быть вместе навсегда. С Даниэликом – из-за шалавы Марины, которую имел весь район.
– Он был в неё влюблён, хотел жениться, понимаешь, – страшно вращая зрачками, шептала седая Лея. – А я сказала, что проклинаю их. И Даниэлик ушёл на фронт. Ему только исполнилось восемнадцать. Каждую секунду я вижу последнюю нашу встречу. Он в овчинной шапке с красной звездой, на погоне – одна лычка. Глаза цвета неба. А Маринка, шалава, куда-то уехала. Может, если б я этого не сказала, он был бы жив? Женился на Маринке, чёрт бы с ней! Чем она хуже Бэлки и Груньки? Такая же баба, только легка на передок. Родила бы ему сына… Я так виновата, Уленька! Я так перед всеми виновата! Перед Богом, перед любимым Йозефом, перед Даниэликом, перед Натаном… Я же мучаюсь на этой земле! Бесконечно мучаюсь!
В маленькую дачную комнату на втором этаже через незашторенное окно лился лунный свет. Рядом на кроватях спали старший Вовочка и младшая Оленька. Улька гладила седую голову Леи и горела от волнения. Никогда. Никогда она не видела её такой. Искренней, обнажённой, беззащитной. Улька не знала, как реагировать. Лея говорила и говорила, слёзы лились по её гладким нестарческим щекам на масляную шею. Руки дрожали, в фокусе лунной дорожки вампирским красным бликом светились глаза и тряслись кудельки на висках. Внезапно старушка затихла и вытерла слёзы подолом ночной сорочки.
– А селёдка под шубой ещё осталась? – голосом прежней, привычной Леи спросила она.
– Осталась, – на свою беду, призналась Улька.
– Тогда принеси мне в комнату жменьку. И никому, никому не говори о том, что сейчас слышала…
Сыщик Эля
– Эля, Элечка, доченька, слышишь меня? – на том конце трубки колотилась взволнованная Груня. – Это мама, слышишь? До тебя так сложно дозвониться. Домашний телефон вам так и не поставили, по рабочему тебя никогда нет! Как дела, доченька? Как Лёвка, как Серёжка?
– Да, мамочка, я соскучилась! У нас всё хорошо! Серёжа растёт, мы с Лёвкой на оперативной работе.
– Когда приедете? От нас как раз съехала Лея в Куйбышев. Ждём тебя!
– Летом, мамуль, в июне, вот обещаю. Возьмём отпуск и приедем. Вместе с Серёжкой. Вместе с Лёвкой…
Эля положила трубку рабочего телефона и уронила голову в ладони. Всё не ладилось. Пятилетний сын Серёжка вторую неделю ходил с соплями и температурой в садик. Лёвка Фегин, её муж и начальник, нервничал, кричал, расхаживая взад-вперёд по комнате. Раскрываемость по квартирным кражам за последний год была почти нулевой. И казалось бы, вот оно счастье. Элька повзрослела, окончила институт, занимается любимым делом – оперуполномоченный в РОВД Привокзального района Архангельска. Кругом новостройки, высотные дома, детские садики, магазины, все блага цивилизации. Но магазины закрываются за два часа до того, как она завершает работу, а в садике осатаневшая воспитательница караулит одного-единственного вечернего ребёнка – Серёжу Фегина, которого Элька, оправдываясь, забирает в девять часов. И никак иначе: на работе один висяк за другим, рутина, орущие начальники, да ещё этот Эстет, чёрт бы его подрал.
А как всё красиво начиналось. Покинув в младших классах Ташкент, Эля с семьёй по направлению, данному папе – военному врачу, перебрались в Архангельск. Город холодный, суровый, негостеприимный. Долго скучала по Узбекистану, хранила Аркашкины письма, которые сначала он, оказывается, отправлял без адреса, а потом наконец родители обменялись контактами. Брат писал, как гусеница шелкопряда обретает крылья, как зреет алыча, как Лидка забеременела от Гришки, «ну того, помнишь, Паяльника», как дядя Додик взял их под свою защиту и растит мальчишку, словно родного сына. Как Лёвка признался, что «никого, кроме Эльки, в жизни не полюбит».