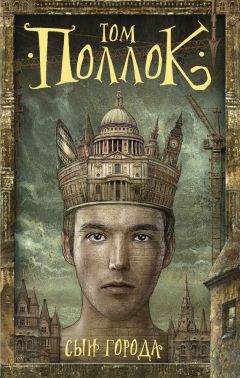В. Коваленко - Внук кавалергарда
Ванька опять шмыгнул носом.
— Вы не смотрите, Лизавета Пятровна, что я видом хлюпкий, я о-го-го какой сильный, как трахтор.
— Как трахтор, — бездумно повторила тетка Лиза, отрешенно смотря в окно.
Помолчала.
Вышла из-за стола: высокая, мосластая, подошла к бухгалтеру:
— Ну что, Семеныч, с этим силачом делать будем?
Бухгалтер в сердцах непотушенную цигарку в банку из-под консервов бросил, на стуле всем корпусом заелозил:
— Чертов фриц, понаделал делов, а тут… — И вдруг неожиданно заулыбался и начал говорить быстро, как будто кто-то его мог перебить:
— А может, мы его учиться пошлем, ну, — замялся он, — ну, например, на счетовода или на пчеловода, а? — И они оба вопрошающе обернулись к мальчишке.
— Нет, не поеду, — категорично обрубил фантазию бухгалтера Ванька и шапкой протестующе махнул, — мне семью харчевать надо, за коровой приглядывать и вообще, — мол, разговор никчемный, пустой. И на председательшу умоляюще посмотрел.
Ванька сам роста маленького, весь какой-то хлипкий, как из воска слепленный, а глаза бойкие, живые, а главное — в данную минуту уж больно ерепенистые.
Председательша покачала головой:
— Не было печали, — а когда садилась на свой скрипучий стул за зеленым столом, закончила с внутренней злобой, — так фрицы накачали.
Помусолила языком маленький карандашик и на бумажке стала что-то писать. Ванька подошел поближе.
Протягивая сложенный вдвое тетрадный лист, сказала:
— Сейчас пойдешь к завхозу, получишь пуд муки ржаной, это тебе будет как аванец, а уж больше, извини, — и руками развела, — дать нечего. Ванька в ее голосе услышал нескрытое огорчение.
— Работать, — привстала и через Ванькину голову бросила бухгалтеру, — запиши его с завтрашнего дня помощником конюха.
Ванька из конторы, как на крыльях, вылетел, бежал по деревне, земли под собой не чуя. «Это ж надо, какой фарт, пуд муки и место! — восторженно думал он. Теперь он для семьи добытчик, вот мать обрадуется-то».
К удивлению Ваньки, мать, выслушав его сбивчивый рассказ, заплакала, уткнувшись лицом в передник. Не понимая слез матери, дружно на одной ноте заголосили сестренки.
Ванька, обескураженно застывший возле матери, вдруг неожиданно понял и ее слезы, и ее боль, и не сумев сдержаться, обнял ее поседевшую голову и тоже зарыдал.
Еще деревенские петухи сонно на насестах среди кур копошились, когда Ванька на свое рабочее место, на конюшню, пришел.
В сторожке разбуженный Ванькиным приходом конюх, хохол дядька Степан, свесив с дощатых нар босые ноги, долго и очумело пялился на Ваньку, неистово зевая и не в силах понять, чего же малай хочет. А Ванька в который раз сбивчиво и бестолково пытался объяснить, зачем он здесь. До одурманенного сном конюха наконец дошел смысл раннего визита парнишки. Минут пять, мешая украинские слова с русскими, костерил он отборнейшей бранью его.
— Чи, хлопец, ты скаженный, ты побачь, скильки годин? — ревел он. И с неожиданным для грузного тела проворством соскочил с нар, схватил порывисто со стола фонарь «летучую мышь», другой рукой ухватил Ваньку за плечо и поволок к тикавшим в углу ходикам:
— Ну, гляделки протри, — тыкал он фонарем в висевшие на стене ходики, и сам крикливо по слогам ответил:
— Тры хвилины чатвертого. Эх, ты, патривот трудового хронту, — уж без прежней злости выдохнул он. Поставил на стол фонарь, и забесновались по стенам тени: большая — конюха, маленькая, взъерошенная — Ванькина.
Конюх залез на нары, сел, по-турецки сложив ноги, свернул самокрутку и стал курить, искоса, без былой озлобленности, больше с удивлением поглядывая на Ваньку.
На некоторое время в сторожке зависла тишина. Только было слышно, как мерно тикают свою однотонную песню старенькие ходики, да сверчок цвиркает в унисон ходикам за разлапистой голландкой.
Как волчий глаз, вспыхивала цигарка, и потрескивал табак в ней.
— Совсем никудышный табак, — просто так, для разговора, сказал миролюбиво дядька Степан, — коней давеча ввечеру поил, вот кисет и замочил.
— Я завтро вам принесу, — торопливо сказал Ванька и пояснил, чтобы дядька не подумал плохого, — тятька по весне помер, а табак без надобности лежит, вот, — и шмыгнул носом.
— Табачок — это хорошо, — прогудел конюх, — а зовут-то тебя как?
— Маманя и сестрички все больше Ваняткой кличут, робяты — Ванькой.
— Ты вот шо, Ванятка, бери за голландкой кожушок старый и лягай, подремлем годину, — укладываясь на нары, пробухтел конюх.
Ванька понял, что обида дядьки Степана улеглась, и, расстилая на лавке кожушок, облегченно вздохнул.
Первый трудовой день был для Ванюшки сущим адом: «Ванятка, воды коням плесни», «Ванятка, пособи бригадиру коня запрячь», «Ванятка, идем карду прибирать». И так почитай до самой темени: Ванятка — туда, Ванятка— сюда…
Ванька приплелся домой, ног под собой не чуя. А послезавтра снова на работу. Но ничего, не так страшен черт, как его малюют, со временем пообвыкся, а там все пошло как по маслу, даже нравиться стало. Коней полюбил, так девку красную не обхаживают. День-деньской подле коней торчал бы и глаз с них не сводил. Любовь дошла до галлюцинаций: ночью сниться стали. Все разговоры только о лошадях.
Была у Ваньки с детства в привычке забава одна: любил из глины фигурки всякие сотворять, там, к примеру, домик игрушечный сляпает или утку-свистульку, или еще чего, так, баловство, ради забавы. А тут стал поголовно одних коней лепить и из чурочек вырезать. Конь у него завсегда получался в труде, там, с санями конь, или с телегой на косогор тяжело поднимается. Но, как всегда, обязательно при деле.
Свое увлечение и на рабочее место перенес. Благо глина рядом, вода — целая речка, свободное время — нет-нет да выкроит, и лепи хоть до посинения. И Ванька лепил.
Дядька Степан смотрел на его забаву, только в усы ухмылялся, а раз не выдержал и присоветовал нравоучительно:
— Че по-пустому время тратишь, лучше бы крынки-миски изделал, матка бы у городу продала, вот вам и прибыток в хату. Погодь, вот я тобе гончарный круг сроблю.
И свое слово сдержал. Теперь Ванька день-деньской гонял круг, лепил и крынки, и миски, и разную другую посуду. Товар оказался ходким и спросом на базаре пользовался.
Спасибо дядьке Степану: он же и обжигу обучил, и керамике. Мастеровой был человек. Дотошный до невозможности. А сердцем отходчивый и добрый.
Пока на войне был, под Киевом всю семью его извели немцы. Плакал — сынка особливо жалко, не жил ведь совсем, махоньким был. И его извели изверги, фашисты проклятущие.
После войны не домой поехал, боялся сам с собой что-нибудь сотворить, а остался на Урале в деревне Тюрюшля. Так и жил при конях, зла никому не творил, всегда был светел и улыбчив. Улыбка на губах, а глаза грустью подернуты. Таким он Ваньке и запомнился. Почему запомнился? Так убили его по весне лихоимцы. Злодеев вскорости словили. Ими оказались трое цыган, позарившихся на добрую лошадь. Судили. Двум дали вышку, одному пятнадцать лет, за соучастие. А деревенским осталась память о добром человеке, Степане Григорьевиче Кошке, полном кавалере орденов Славы.
А тут вскорости и Ваньки мать померла. Правду люди говорят: приходит беда, отчиняй ворота. Мать померла тихо, с вечера умылась, надела беленький платочек, поцеловала всех на сон грядущий и сказала, как прощаясь:
— Пойду я.
И ушла…
И остался Ванька один. Нет, люди вокруг были, были сестры, были сменные, только с уходом дорогих ему людей словно кусочки живой плоти отрывались от сердца.
В военкомате доктор, который проверял Ваньку для службы в армии, так и записал: не годен по причине сердечной недостаточности. И остался Ванька в родной деревне, при конюшне.
Забросил напрочь все плошки и миски и принялся ваять прежнюю детскую забаву — лошадей. Баню-то новую срубил, а старую под мастерскую оборудовал. В ней и дневал, и ночевал, корпея над очередным произведением. Раз приносит и показывает сестрам, они уж совсем заневестились, того и гляди, в чужой дом уйдут. Да вот, значит, показывает им свою очередную поделку — на ней мужик в полушубке коня норовистого в сани запрягает, вроде бы ничего особенного, игрушка она и есть игрушка, хотя и красивая. А он не унимается и все сестер пытает:
— Ну, похож, смотрите лучшее, похож?
— На кого похож? — взмолились те.
— На дядьку Степана. Что, главного и не приметили? Те присмотрелись и согласились — навроде и вправду похож.
Иван бережно отнес свою работу в передний угол, под божницу.
— Я еще маменьку изделаю, как она конюшонка поит. И на смену засобирался.
Его уж вовсю Запрягаем звали, а пошло-то все с чего. Председателем после тетки Лизы стал присланный из города мужик, так сказать, не деревенский, но башковитый, зазря колхозников никогда не забижал. И вот однажды он принял на работу ветфельдшера, молодого парня. Тот первое время ходил в галстуке, в штиблетах, говорил всем «Вы». А через месяц запил, как последний забулдыга, и куда весь форс его делся. Наносным оказался. Придет, бывало, с утра на конюшню, от самого самогонкой прет за версту, какой тут запрячь или распрячь — и разговора об этом нет, вот он и горланит на всю конюшню: «Ванька, запрягай!» С его пьяного языка это прозвище и прилипло к Ивану. Правда, ненадолго задержался в ихой деревне «скотина доктор», вскорости поперли его с места, сельчане и звать-то как его забыли, а Ванькино-то прозвище приклеилось намертво. Вот ведь как бывает.