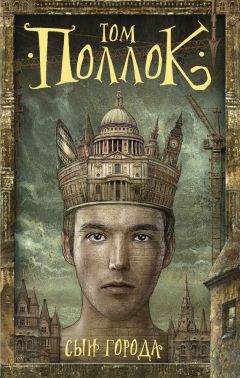В. Коваленко - Внук кавалергарда
— Да будить у тебя лисапед, будить!
О чем она говорила с отцом, я не знаю. Но после ее слов я не сомкнул глаз целую ночь. Рисовал в воображении такие картинки, что, если бы хоть одну из них увидела бабушка, то велосипеда мне было бы не видать как собственных ушей.
И вот однажды летним утром я проснулся от присутствия кого-то или чего-то в моей комнатке. Открыв глаза, я какое-то время ничего не мог понять — у противоположной стены стоял маленький велосипед. Он смотрел на меня и блестел самым взаправдашним звонком. И вообще, у него было все самое взаправдашнее. Кроме шин, конечно: они были литыми. Но меня это не смущало и никак не могло омрачить моей детской радости. «У меня есть свой лисапед! У меня есть свой лисапед!» — радость криком кричала во мне. Желая похвалиться перед бабушкой, я тут же покатил его на кухню.
Бабушка хлопотала возле примуса и, увидев мое восторженное лицо, мягко улыбнулась.
От обилия радости я напрочь забыл о порожке на кухню, и конечно, тут же навернулся. Падающий вместе со мной велосипед очень больно стукнул меня рулем по голове. Я не сдержался и расплакался от боли и обиды.
Бабушка, бросив все, присела около меня и стала ласково гладить мою голову, при этом приговаривая одно и тоже:
— Казак не плачет, казак не плачет никогда.
— Плачет, — убежденно сказал я сквозь всхлипывание.
Бабушка тяжело поднялась и молча пошла к стоящему в углу своему сундуку. Она подняла крышку и долго в нем что-то искала. Вернулась она ко мне с ветхим альбомом, таким ветхим, что, казалось, он вот-вот развалится от своей древности. Она положила его на табурет и принялась листать, рассказывая почти о каждой старинной фотографии. Их было много: женщины в глухих кофтах и юбках до пола, бравые солдаты, чинно сидящие перед фотоаппаратом, и, конечно, дети, стоящие на стульях с игрушкою в руке. И вот бабушка открыла фотографию, на которой маленький мальчик сидел верхом на лошади без седла.
— Это мой брат Степан, а твой дедушка. Это когда он был маленьким, — пояснила она, ласково гладя ладонью пожелтевшую от времени фотографию.
Помню, я возмутился: какой дедушка, у него даже усов нету. Она перевернула еще страницу: там возле коня стоял настоящий казак в папахе с усами и с шашкой на правом боку черкески.
— И это твой дедушка Степан, но уже взрослый, на войне в четырнадцатом, — и вытерла фартуком мое мокрое от слез лицо. — А знаешь, как его учили ездить верхом на коне? Заходит как-то тятька с базу в хату и гутарит Степану: пошли, сынку, вершником учиться ездить. Берет маленького Степу на руки и вон из хаты, я за ими следом, антирес забираеть, — улыбнулась она. — Смотрю, сажает братишку верхом на коня без седла и ладонью хлопает по лошади. А Степка сидить и за гриву держиться. Конь с места в намет и пошел по улице чесать. Токмо, смотрю, Степка с него мешком на дорогу плюхнулся. Сидит в пыли и мокрые глаза кулачками растирает. Вижу, больно ему, и зареветь в голос хочется, но стиснул зубы и сидит, заплаканный, молчит. А тятька ему так строго и гутарит: «казак не плачет». Степка, белый как полотно, а молчит, знает: казак не плачет.
Тятька потом еще долго его вершником обучал, а Степка так ни разу и не заплакал, хотя, обучаясь, плечо вывихнул. А не заплакал, — с тихой улыбкой закончила бабушка.
— Степка-то казаком был, а я просто мальчик, — начал оправдываться я.
— Нет, ты и по украинскому роду, и по уральскому являешься казаком: таким же, как твой дед Степан. А, значит, плакать не имеешь права.
— А почему я дедушку Степана никогда не видел? — спросил я удивленно у моей бабушки.
Она закрыла старенький альбом и долгим, ничего не видящим взглядом посмотрела в окно:
— Очень давно погиб в отряде Щорса. Смелый был казак.
Положила альбом на место в сундук и, возвращаясь к кухонному столу, приказным тоном сказала мне:
— А ты шомором одевайся и марш к столу, а потом пойдешь на лисапеде учиться, и штоб никакого рева и нытья, сам просил лисапед.
Дорога была гравийная, укатанная колесами машин. Бабушка сидела у ворот дома, чинно сложив руки на переднике, и подслеповато смотрела на меня. Перевесившись животами через забор, мне со смехом улюлюкали братья Лилявины. Все были в сборе, и я начал учиться ездить на велосипеде.
Это был адский труд: четырехлетнему мальчишке научиться ездить. Сто, а может быть, тысячу раз я пахал носом по гравию. Но всякий раз, поднимаясь на ноги, я видел мою бабушку, и через силу давил в себе рыдания.
— Казак не плачет, — всякий раз, падая, повторял, как молитву, бабушкины слова. И так я научился ездить на велосипеде. Лихо прокатившись перед ехидными братьями и показав им язык, я устало повел велосипед во двор. Зайдя в дом в изодранной одежде и весь окровавленный, чем привел моих родных в шок, я независимо и гордо попросил у моей бабушки пирожок. Вместо того чтобы дать мне пирожок, бабушка принялась снимать с меня одежду, протирать ссадины и ушибы тряпочкой, смоченной в одеколоне. Было нестерпимо больно, жгуче больно, но я крепился из последних сил, только морщился, как печеное яблоко.
— Что с тобой? — спросила изумленная мать.
— Казак не плачет, — крепясь, но кривя рот от боли, лихо ответил я.
Прошло много лет, давно умерла «мудрая хохлушка», моя милая бабушка. А жизнь порой загоняла меня в такие переплеты: что хотелось сесть и разрыдаться от своего бессилия, но всякий раз в такие минуты ко мне приходил тихий голос моей бабушки: казак не плачет!
И, стиснув зубы, я шел по жизни дальше.
Иван Запрягай
Запрягай — не фамилия Ивана, прозвище. Простое деревенское прозвище. Как говорится, что ни город — то норов, что ни деревня — то обычай. По милости такого треклятого обычая и получил, тогда еще тринадцатилетний мальчишка, Ванька Кулик вторую, не паспортную, фамилию — Запрягай.
И в двадцать лет, и в тридцать, и в сорок был он Иван Запрягай, детей его звали Запрягаевыми, жену — Запрягаиха.
Брось Иван все, скройся на краю земли, где и Макар телят-то не пас, все одно, и туда молва людская докатится, что Иван Кулик, уроженец деревни Тюрюшля, есть не кто иной, как Иван Запрягай. В общем, как поплыл — так и прослыл.
А поплыл он по жизни так. Отец в конце сорок четвертого с фронта шибко калеченным вернулся, долго не зажился. День Победы Ванькина семья (мать и он с двумя младшими сестренками) без отца встретили. Порадовались со всеми за большую, долгожданную победу, погоревали, поскорбели за рано умершего отца, а жить-то дальше надо. А как жить? Мать за военные годы так изработалась — краше в гроб кладут. Отца ждала, тем и держалась…
Посмотрел Ванька с горечью и болью в сердце на глубоко запавшие, потухшие глаза матери, решительно сдернул с гвоздя над дверью отцовский солдатский треух с темным вдавленным следом от звездочки и в контору колхоза нахраписто направился. Он теперь за старшего, он — голова, ему и решать, как дальше быть.
Перед конторой оробел, замялся: председателем была тетка Лиза, женщина резкая, с характером, голос у нее был зычный, хоть миноносцем командуй, да и только.
«Вспомнит, — подумалось Ваньке, — как в том году я колхозную картоху выкапывал и объездчику попался, да и турнет в шею и места не даст».
Но, поправив отцовский треух, хотя на дворе июнь и солнце до одурения шпарит, дверь в правление решительно открыл. Батьковский треух будто смелости придал.
В конторе были двое, председательша да бухгалтер безногий. На скрип двери тетка Лиза голову от стола с бумагами подняла и бросила удивленный взгляд, бухгалтер костяшками счетов стучать перестал и тоже на Ваньку уставился.
— Тебе чего? — громко спросила она его. Бухгалтер с треском листик из газеты на самокрутку вырвал, а Ванька стоит — не то что слово сказать, дыхнуть боится, а вся беда в том, что чувствует, как у него уши под тяжестью шапки прогибаются, сорвется с ушей шапка и накроет по самые плечи. И вместо серьезного делового разговора один клоунский конфуз выйдет. Но догадался, смекнул ко времени, сдернул порывисто шапку. Со лба от напряжения ниточки пота на нос потянулись и несолидной каплей зависли. Шмыгнул Ванька носом и растер их рукавом рубахи по щеке.
— Ты… Вы… Лизавета Пятровна, на работу меня при стройте, исть дома нечего, а маманя совсем хворая, — выдохнул это разом и затоптался у порога нетерпеливо, ожидающе.
Тетка Лиза долго и как-то виновато на него смотрела, защемив зубами нижнюю губу.
— А годков-то тебе сколько, атаман?
— Пятнадцать, — не моргнув глазом, соврал Ванька: он был готов к подобному вопросу.
— Брехун, — скорбно улыбнулась тетка Лиза, — будто мне не знать, сколько тебе, сморчку, лет, чай, с моим Петькой в одном классе учишься.
Ванька опять шмыгнул носом.
— Вы не смотрите, Лизавета Пятровна, что я видом хлюпкий, я о-го-го какой сильный, как трахтор.