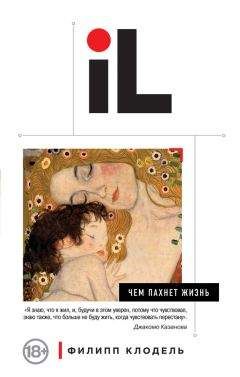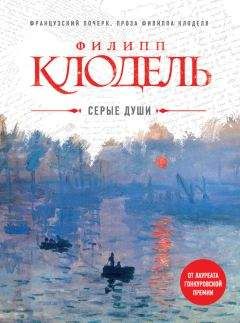Филипп Клодель - Мое имя Бродек
– Schussa Brodeck! Au baldiegeï en Dörfe! – Пока, Бродек, до скорой встречи в деревне! – бросил мне Фриппман, просияв лицом, когда колонна двинулась. Я не смог ему ответить. Просто махнул рукой, чтобы он ничего не заподозрил о том небытии, что я предчувствовал и навстречу которому нас погнали ударами дубин, сначала его, потом меня. Он отвернулся и пошел вперед бодрым шагом, насвистывая.
Больше я никогда не видел Фриппмана. В деревню он не вернулся. Баеренсбург, дорожный рабочий, высек его имя на монументе. В отличие от моего, его не пришлось стесывать.
Эмелия и Федорина остались одни в доме. Деревня их избегала. Словно они вдруг заразились чем-то вроде чумы. Диодем был единственным, кто заботился о них из дружбы и стыда, как я уже сказал. Как бы то ни было, он этим занялся.
Эмелии почти не заказывали приданое, скатерки, занавески, носовые платки. Не имея заказов на вышивки, она тем не менее не сидела сложа руки. Надо было чем-то питаться, обогреваться. Я показал ей все, что можно добыть в лесах и на горных лугах: ветви, коренья, ягоды, грибы, травы, дикие салаты. Федорина научила ее ловить птиц на клей или в силки, ставить ловушки на кроликов, сманивать белок вниз с высоких пихт и сбивать броском камня. С голоду они не умирали.
Каждый день Эмелия писала в маленькой тетрадке, которую я нашел, несколько предназначенных для меня слов. Всякий раз это были простые и нежные фразы, в которых говорилось обо мне, о ней, о нас, словно я вернусь в следующее мгновение. Она рассказывала о том, как прожила день, начиная всегда с одних и тех же слов: «Милый мой Бродек…» И в том, что она писала, не было никакой горечи. Она не упоминала Fratergekeime. Уверен, что она делала это нарочно. Это был прекрасный способ отрицать их существование. Тетрадка по-прежнему у меня. Я часто перечитываю пассажи оттуда. Это долгий и волнующий рассказ о днях разлуки. Это наша с Эмелией история. Это слова света, служащие контрапунктом для всех сторон моего мрака. Я хочу сохранить их для себя, для себя одного, как последний след голоса Эмелии перед ее уходом в ночь.
Оршвир не потрудился заглянуть к ней. Но однажды прислал половину свиной туши, которую они нашли утром перед дверью. Раза два-три ее проведал Пайпер, но Федорина с трудом его выносила, потому что он часами сидел возле печки, опустошая бутылку сливовой настойки, которую она доставала для него, и все больше заговариваясь. И в конце концов однажды она прогнала его метлой.
Адольф Буллер и его отряд по-прежнему стояли в деревне. Через неделю после нашего с Фриппманом ареста он дал наконец разрешение похоронить Катора. У того не было другой родни, кроме Бекенфюра, женившегося на его сестре. Он-то и занялся погребением. «Жуть, Бродек… Не больно-то красиво… Голова распухла раза в два, стала похожа на какой-то странный пузырь, кожа почернела и полопалась, а потом еще остальное… Господи, не будем больше об этом…»
Кроме этой казни и нашего ареста, Fratergekeime вели себя с населением самым учтивым образом, так что оба события быстро забылись, вернее, люди сделали все, чтобы об этом забыть. Тогда-то и вернулся в деревню Гёбблер вместе со своей толстой женой. Снова поселился в своем доме, который оставил пятнадцать лет назад, и был принят с распростертыми объятиями всей деревней, особенно Оршвиром, поскольку оба вместе проходили военную службу.
Я готов поклясться, что именно по советам Гёбблера деревня мало-помалу изменила отношение к оккупантам. Он дал заметить всем, насколько выгодно быть оккупированными войсками, ведь в них нет никакой враждебности, а совсем даже наоборот, они обеспечивают спокойствие и безопасность, делая деревню и ее окрестности свободной от массовых убийств зоной. Впрочем, ему было легко убедить людей, что всем выгодно, если Буллер и его люди останутся в деревне как можно дольше. Ведь сотне человек надо есть, пить, курить, стирать и отдавать в починку белье – на самом деле это приносит немало денег.
Гёбблер стал своего рода заместителем мэра с согласия всей деревни и с благословения Оршвира. Его часто видели в палатке Буллера, который сначала отнесся к нему с недоверием, но затем, поняв всю выгоду, которую мог извлечь из этого безвольного человека и от сближения, которому тот способствовал, стал относиться к нему почти как к соратнику. Что касается Буллы, жены Гёбблера, то ее ляжки широко раскрылись для всего отряда, и она одаряла своими милостями как военных в чинах, так и простых рядовых.
– А чего ты хочешь, все привыкли, – сказал мне Шлосс в тот день, когда решил поплакаться в жилетку и подсел к моему столу. – Вроде так и надо, что они здесь. В конце концов, они ведь такие же люди, как и мы, из того же теста. Говорили об одном и том же и почти на том же языке. Да мы их и знали почти всех по именам. Многие оказывали услуги старикам, другие играли с малышами. Каждое утро десяток из них подметал улицы. Другие занимались дорогами, рубили дрова, убирали навозные кучи. Деревня никогда не была чище! Что я, по-твоему, должен еще сказать? Когда они приходили сюда, я наполнял стаканы, а не собирался плевать им в морду! Да к тому же, думаешь, много было таких, кто хотел кончить, как Катор, или сгинуть, как ты и Фриппман?
Fratergekeime оставались в деревне почти десять месяцев. Но в последние недели атмосфера изменилась. Позже узнали почему. Война была уже не та, что прежде; изменились ее место, ее дух. Как едкий дым весеннего костра мечется на ветру, резко меняя направление, так и победы теперь стали доставаться другим. Однако никакие новости до деревни не доходили – для местных, разумеется. Пока их удерживали в неведении, они не могли стать опасными. Но что касается Буллера, то он знал все. И мне нравится думать о его лице, которое все чаще и чаще искажалось тиком, по мере того как приходили донесения о разгроме, катастрофе, о развале Великой территории, которая должна была распространить свое господство над всем миром на тысячи лет.
Отряд, словно собака, почувствовал раздрай в душе своего командира и с каждым днем становился все раздражительнее. Маски снова были сброшены. Вернулись прежние рефлексы. Мясника Брохирта отдубасили на глазах Диодема лишь потому, что тот пошутил по поводу пристрастия капрала к требухе. Лиммата, который не дал себе труда поздороваться с двумя солдатами, попавшимися ему навстречу, сбили с ног и только благодаря вмешательству проходившего мимо Гёбблера не избили палками. Десяток инцидентов такого рода дал понять всем, что чудовища никуда и не девались, а просто заснули на какое-то время, но отныне намерены проснуться. И тогда вернулся страх. А вместе с ним и желание заклясть его.
Как-то под вечер, должно быть, накануне ухода отряда, Dörfermesch – «деревенские», которые отправились в лес Боренсфаль спускать бревна с гор на салазках, обнаружили рядом с прогалиной Лихмаль под грудой пихтовых веток, наваленных вроде шалаша, трех девушек, испуганно жавшихся друг к другу при виде дровосеков. На них была не крестьянская одежда. И обувь тоже не имела ничего общего с деревянными башмаками. У них были при себе маленькие чемоданчики. Наверняка они бежали уже несколько недель и очутились, бог знает как, в этом лесу, в самом центре этой странной вселенной, где совершенно заблудились.
Dörfermesch накормили их и напоили. Те набросились на еду так, будто ничего не ели несколько дней. Потом доверчиво спустились с лесорубами в деревню. Диодем полагал, что тогда они еще не знали, как поступят с девушками. Хочу ему верить. Но, как бы то ни было, они сообразили, что имеют дело с Fremder, а потому каждый шаг, каждый метр, сделанный по тропинке и приближавший девушек к деревне, прояснял их судьбу. Гёбблер, как я уже сказал, стал важным человеком и на самом деле единственным, кого принимал капитан Буллер. К нему-то и привели девушек. И это он уговорил сдать потеряшек Fratergekeime, чтобы снискать их признательность, а тем временем успокоить и приручить их, пока они ждали перед домом под частым, неожиданно начавшимся дождем.
Небо играет нами. Я часто говорил себе, что не будь того дождя, который сильно застучал по черепице, Эмелия, возможно, никогда бы и не выглянула в окно. Не увидела бы этих трех девушек, промокших, дрожащих, исхудавших и усталых. Не вышла бы, чтобы предложить им зайти и погреться у огня. И не оказалась бы тогда вместе с ними, когда два солдата, предупрежденные деревенскими, пришли за девушками. Она тогда не протестовала бы. Не кричала бы, уверен в этом, в лицо Гёбблеру, что сделанное им бесчеловечно, и не дала бы ему пощечину. Солдаты не схватили бы ее. Не увели бы вместе с тремя девушками. И она бы тогда не сделала свой первый шаг к пропасти.
Из-за дождя. Просто из-за дождя, стучавшего по черепицам и окнам.