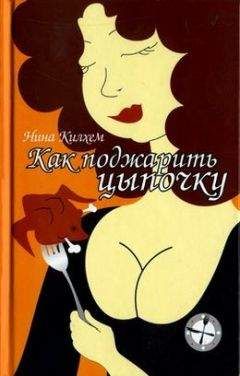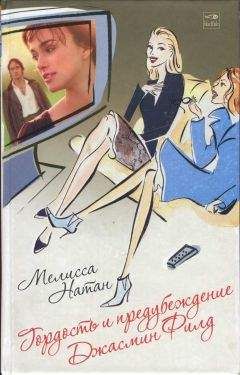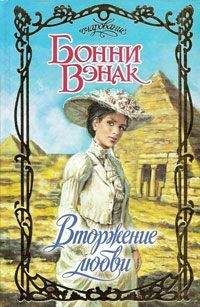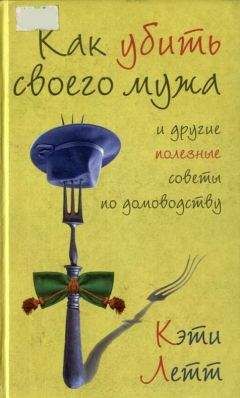Филипп Клодель - Чем пахнет жизнь
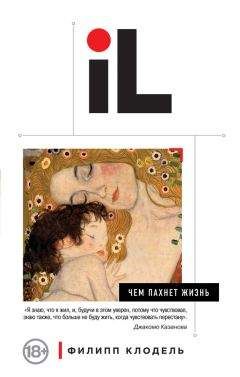
Обзор книги Филипп Клодель - Чем пахнет жизнь
Филипп Клодель
Чем пахнет жизнь
Посвящается другу Жан-Марку,
нашему общему пути,
прошлому, настоящему и будущему
Позволь мне долго-долго вдыхать аромат твоих волос, жадно окунать в них свое лицо, как измученный жаждой путник окунает лицо в воду ручья; перебирать их пальцами, как тончайший благоуханный платок, чтобы дать свободу воспоминаниям.
Шарль Бодлер «Полмира в твоих волосах»[1]Philippe Claudel
Parfums
Copyright © Editions Stock, 2012.
© Хотинская Н., перевод на русский язык, 2014
© Издание на русском языке, оформление, ООО «Издательство «Эксмо», 2014
© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес, 2014
Акация
Acacia
Климатическая несуразность: я знаю – есть деревья, покрытые снегом в начале июня. Этот снег густой и в то же время невесомый – пушистые грозди, которых вечерний ветерок касается так же легко, как гладят живот возлюбленной. Я качу на велосипеде по разбитой дороге, идущей под уклон за кладбищем Домбаля, города, где я родился, города, где я вырос, города, где я живу и сейчас, к заброшенному стадиону Соммервилле, где мы привыкли играть. Догонялки, вышибалы, полицейские и воры. Друзья ждут: Нош, Вагетты, Эрик Шошнаки, Дени Поль, Жан-Марк Сезари, Франсис Дель Фабро, Дидье Симонен, Дидье Фо, Жан-Мари Арну, Маленький Жан, Марк Жоне. Высокие акации застят светлое небо, смыкаясь в резной свод. Листья в форме античных монет. Шипы терновых венцов – для кого они? Я кручу педали, зажмурившись, откинув голову назад, упиваюсь запахом лепестков и искрящейся радостью, которую вновь приносит с собой каждая весна. Дни скоро станут длинными-длинными, как наша жизнь. Мы будем ждать вечера под вечно новое пение птиц и концерты лягушек. И, с изумлением уловив последнюю прохладу земли, освежимся ею. И туманы уйдут в чужие края, далеко-далеко, чтобы вернуться лишь в октябре. Небо расцветится розовыми закатами, окаймленными оранжевым и бледно-голубым, как на картинах Клода Желле, больше известного как Лоррен, – он родился в нескольких лье отсюда тремя веками раньше. Цветы акации пахнут медом и первоцветом, в них гудят пчелы, упившиеся и пошатывающиеся в теплом воздухе, точно крошечные мохнатые сатиры. А мы, маленькие представители людского племени, ищем на нижних ветвях тяжелые грозди бледно-кремового цвета. Мы срываем их, невзирая на царапины на пальцах и запястьях, и выступающие капельки крови – знаки нашего мужества. Укутав юных покойниц в салфетку, я качу домой, крутя педали что есть сил. Проезжаю мимо уснувших боен, где бычьи туши висят на крюках в холодильных камерах, размышляя о своей недолгой судьбе. Мама замесила тесто. Мы погружаем в него грозди, тяжелеющие в светлой лаве. Теперь – поскорей опустить их в кипящее масло, чтобы глубинный аромат не умер, но остался пленником под корочкой. Тонкой. Золотистой. Ночь за окном распахнула свой глаз цвета берлинской лазури. Кот у плиты наблюдает за нами, думая о чем-то своем. Уже поздно. Еще рано. Глаза блестят, губы жжет, а мне все равно – я кусаю хрустящую гроздь, полную цветов, улыбок и ветра. Я пробую вкус весны.
Чеснок
Ail
Сначала нож надрезает зубчик. Нож, чье лезвие отточено так остро, что похоже на очень тонкий серпик луны. Этот самый нож моя бабушка – которую все зовут Блошкой, несмотря на высокий рост, – ничуть не стесняясь, одним точным движением всаживает в горло кроликам, выпуская кровь, и я никогда не отвожу глаз, предпочитая это откровенное убийство лицемерной палке, которой у иных принято забивать животных. Мой отец тоже так делает. Я не пропускаю ни одной «казни». Особенно мне нравится момент, когда, сделав небольшие надрезы вокруг лапок, он разом, как носок, выворачивает шкурку, отделяя ее от тельца цвета слоновой кости с синевой. Из чеснока, чей очищенный зубчик похож на клык хищника, орудие убийства вырезает крошечные кубики, перламутрово-белые и чуть жирноватые на вид, которые не успевают распространить свои ароматы, потому что бабушка быстро-быстро ссыпает их в черную помятую сковороду на уже шкворчащий бифштекс. Взрыв. Дым, как в кузнице. Щиплет глаза. Кухня маленького дома номер 18 по улице Шан-Флери тонет в белых клубах. Я глотаю слюнки. Пахнет чесноком, горящим маслом, мясом, чьи кровь и соки, соединяясь с растопленным жиром, превращаются в восхитительную подливу. Я жду, в животе сосет. Я за столом. В руках вилка и нож. Белая полотняная салфетка повязана вокруг шеи. Еще не достаю ногами до пола. Мальчик-с-Пальчик, а сейчас стану сказочным Людоедом. У меня вся жизнь впереди. Бабушка выгоняет чад в окошко, выходящее на двор, и шлепает на мою клееную фаянсовую тарелку – я люблю ее растрескавшуюся глазурь и картинку, сцену охоты, – жареный бифштекс, который мы только утром купили в мясной лавке Пти-Мера на улице Карно. Кубики чеснока скукожились. Одни стали рыжими, другие коричневатыми, третьи – цвета карамели, а некоторые, удивительное дело, сохранили свою жасминовую белизну. По горячему золотистому мясу растекается их неосязаемое чудо. Творение свое бабушка завершает, мелко нарезая черными портновскими ножницами немного петрушки, которая сыплется на мясо, придавая ему аромат живой травы; потом смотрит на меня с улыбкой. «А ты не ешь?» – спрашиваю я. «Смотрю на тебя – и сама сыта», – отвечает она. Она умрет, когда мне исполнится восемь лет.
Самогон
Alambic
Что за домишко в Мабюзе – доски едва обтесаны, плохо пригнаны, местами почернели, словно их за долгие годы вылизал медленный огонь. Он стоит на выступе над Саноном, близ моста Пьера Эскюраса, каким-то чудом держась на высоком обрыве над самым течением. Внизу – зимняя вода, скудная, серая и мутная, длинные водоросли колышутся грязной шевелюрой, а неподалеку порт Большого канала, где стоят бок о бок баржи, точно большие рыбы, разбухшие от известняка и угля. В январе месяце домишко пробуждается от сна. Слышен скрип, непонятные шорохи, присвист пара и дыма, стук капель и бульканье, иногда – кашель или пение, свист сквозь зубы, а подчас и ругательства. Мы, ребятня, ошиваемся вокруг, раздувая ноздри и разевая рты, вдыхаем все, что сочится из этих стен, переполняя грудь, и даже не замечаем холода, от которого немеют пальцы и краснеют щеки. Невидимый перегонный куб и его хозяин, тоже невидимый, притягивают нас, мотыльков, кружащих у сорокаградусного солнца. Да, там, окутанное непостижимой для нас тайной, оно самое – солнце, в изгибах лабиринта раскаленной меди превращается в спирт. Солнце плодов, золотых и лиловых, мирабели, груш, слив и терна, собранных несколько месяцев назад у древесных корней, – они были такими спелыми, что попадали от своей сахарной тяжести и полопались под напором теплой мякоти, а потом их смешали в бочках, где они вовсе даже не сгнили, а слились друг с другом, перебродив в густое пенное сусло. В домишке над рекой разыгрывается последний акт. Плоть становится чистым спиртом. Аппарат разливает жидкость в бутылки и фляги, принесенные нашими отцами, но делится и с ангелами тем, что великодушно выпускает кривобокий домишко. Наверно, на небе хмелеют от этих паров, но здесь, на земле, мы – уже не ангелы, еще не демоны, – превращаемся, благодаря им, в шальных фавнов, выписываем зигзаги на велосипедах, смеясь просто так, счастливые, хмельные от этого сорокаградусного бриза, хмельные от жизни.
Возлюбленные
Amoureuses
Так чем же пахнут наши возлюбленные крошки[2], когда наши губы впервые встречаются с их губами и потом решительно не знают, что делать дальше? Мне 12 лет. Девочки на меня не смотрят, а мальчики смеются над моей худобой. Мое ветреное сердечко чуть не выскакивает из груди, когда мимо проходит черненькая Натали или беленькая Валери. Я пишу стихи и украдкой сую листки им в руки, с утра, в восемь часов, приходя в коллеж имени Жюльенны Фаренк. Клеопатра, Елена Троянская, Афина, Афродита, Диана, Нефертити: я умещаю в своих виршах всю программу по истории и мифологии. Еще я беззастенчиво граблю авторов из учебника французского: «Валери, под мостом Воров тихо течет Санон и уносит нашу любовь» или «Завтра с рассветом я в школу бегу, Натали, знаю, ты меня ждешь, быть вдали от тебя не могу»[3]. Но Натали вовсе меня не ждет. Чтобы выразить всю мою страсть, я придумал для Валери глагол «преобожать» – этакая превосходная степень от «обожать»: «Валери, я тебя преобожаю!» В ответ я получаю лишь пожатия плечами да брезгливые гримаски. Мои стихи кончают свой век скомканными в сточных канавах. Их бросают туда на моих глазах. Собаки и кошки их орошают. Стоять на стреме – только на это я и гожусь, мое дело – предупредить Франсуа, целующего Натали, или Дени, делающего то же самое с Валери, чтобы приближающийся взрослый не застукал их в узких переулках, что соединяют улицы Жюля Ферри и Жанны д’Арк. Я, покладистый маленький рогоносец, оберегаю покой романов, которые с моими возлюбленными крутят другие. Потом я спрашиваю их, чем пахнут эти поцелуи, каковы они на вкус, скопированные с тех, что можно видеть каждое воскресенье на экране кинотеатра «Георг», – а эти киношные поцелуи, столь же пылкие, сколь и застывшие, вполне могли бы сойти за рекламу клея «Момент». Это называют «взасос». Я не знаю, что это значит, но мне почему-то представляются войлочные тапочки, которые я ношу дома. Они старенькие, клетчатые и плохо пахнут. Познаю я, что это такое, через несколько месяцев: это будет не с Натали и не с Валери, а с Кристиной Френци. С толстушкой Френци. День рождения у Вагеттов. Мы едим торт. Запиваем газировкой «Sic», апельсиновой и лимонной, психоделических цветов. Кто-то ставит музыку, медленный эстрадный мотивчик, такой же сладенький, как наши напитки. Все топчутся, как могут. Многие девочки в шортах. Сидеть остались только мы двое, она и я. Она придвигается ко мне, берет за руку. Я не смею отказаться, и вот мы уже в обнимку. Мои руки коротковаты, чтобы обхватить ее всю. Мне немного стыдно. Что подумают Натали и Валери, которые обнимаются с моими друзьями, так близко, так далеко? Я закрыл глаза. И опять она сама приближает свое лицо к моему, ищет мои губы, находит их, целует. Шелковистые волосы пахнут тем же шампунем «Dop», что и мои, но и чем-то еще – растительным, сладким, засахаренным, это запах лакомства, кондитерской, запах травы, лугов, я не могу подобрать ему название, – но, не в силах оторваться, счастливо вдыхаю его в ямке ее шеи, на губах, и целую, целую эти губы, я уже и сам этого хочу. Забыта Натали, забыта Валери. Так им и надо. А когда после танца толстушка Френци делает то же, что все остальные девочки с мальчиками – усаживается мне на колени, и боль пронзает мои голые ляжки, придавливая редкие мускулы к костям, я не произношу ни слова. Стискиваю зубы. Вдыхаю запах ее затылка, щек, губ. Мы снова целуемся, и после этих поцелуев с зеленым душком засахаренного дягиля – наконец-то я понял, чем они пахнут – я еще много лет буду открывать стеклянную банку с цукатами, которые мама хранит на нижней полке кухонного шкафчика и украшает ими кексы и ром-бабы. Запускать в банку пальцы, брать засахаренные стебельки, сладкие и липкие, подносить их к носу и, зажмурившись, есть, сидя на холодном линолеуме; и вспоминать толстушку Френци, ее поцелуи, – но еще и Мишель Мерсье, чьи умеренно эротические похождения показывают по телевизору каждое лето, – и напевать медово-сладенький мотив, который свел нас: «Мы пойдем, куда ты захочешь, когда ты захочешь, и мы будем любить друг друга, даже если не станет любви». Будь благословен Джо Дассен – ведь он помог мне куда больше, чем Аполлинер и Гюго, вместе взятые.