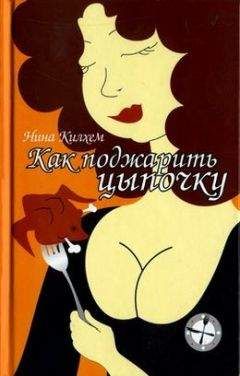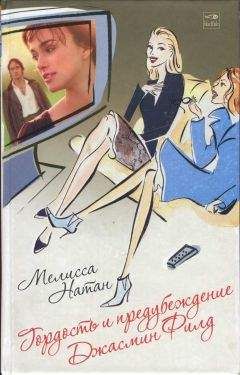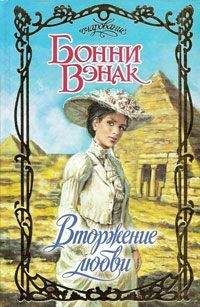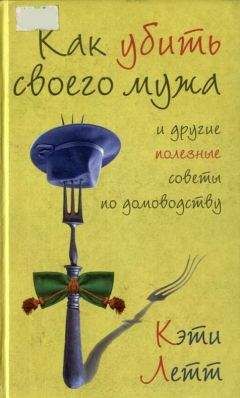Филипп Клодель - Чем пахнет жизнь
Уголь
Charbon
Мы топим дровами или углем. Больше, впрочем, углем, чем дровами, – его перед каждой зимой привозит нам грузовик от Обера. Десятки грязных джутовых мешков носят двое мужчин, чьи лица, как ночь – только белизна зубов и глазных белков придает им хоть какую-то человечность, и то жутковатую, это человечность убийц или пожирателей детей. Одного зовут именем северного бога, Один. Их руки – такими только шеи сворачивать – подхватывают мешки из кузова грузовика, движением поясницы грузчики взваливают мешки на плечо и медленным шагом спускаются с ними вниз, в погреб. Сделав дело, грузчики утирают пот со лба тыльной стороной грязной ладони. Отец угощает их стаканчиком красного, который они опрокидывают залпом, стоя, не произнося ни слова. Уголь в брикетах, квадратных или овальных, или просто россыпью. Куча угля соседствует с кучей картошки. Обе одновременно уменьшаются, неделя за неделей. По ним можно измерить, как идет на убыль зима. Из всех труб в городе валит густой черный дым, тяжело поднимающиеся в небо клубы почти не рассеиваются. А часто бывает даже, что небо их отторгает, прибивает к земле, а стало быть, к нам. Мы задыхаемся в удушливом тумане, и частички сажи оседают повсюду, на деревьях в саду, на развешенном белье, на наших волосах, на снегу – полной противоположности угля. Меня посылают в погреб. Я наполняю цинковое ведро занятной формы – прямоугольное основание сужается и округляется кверху. Поднимаюсь, держа его двумя руками. Плита ждет угля, как оголодавший зверь кормежки. Крюком открываю дверцу и ссыпаю черноту в ее красную пасть. Вырывающийся из жерла жар жжет кожу, а иногда и подпаливает немного брови. Как будто опалили поросенка. Плита марки «Зугланд» переваривает свой корм, урча от удовольствия. Она сыта. Я открываю ранец и принимаюсь за уроки на кухонном столе, весь в запахе вечернего супа. Мне хорошо. Я люблю читать и писать на кухне. Это лучшее место для меня, простое и без затей, никакого официоза. Здесь не надо выглядеть, не надо играть ни в какие социальные игры. Кухня знает наше истинное нутро. Она видит нас утром, с помятым после ночи лицом, и вечером, когда, после долгого дня, мы позволяем себе расстегнуть пояса и показать наши слабости. Поставщики угля постепенно исчезают: устанавливают центральное отопление. Революция. Тепло и чисто. Погреба больше не черны от сажи. Хозяйкам не надо гоняться за пылью. Из труб идет прозрачный, ничем не пахнущий дымок. Запах забыт. Закрываются шахты. В окнах новенькие стекла. Уголь уходит из нашей жизни. Минуло много лет, и вот я иду по улицам польского города Катовице. Февраль месяц. Очень холодно. Уже стемнело. Навстречу попадаются закутанные фигуры, спешат, опустив головы, лиц не видно под большими шапками, низко надвинутыми кепками. Скупо освещенные магазины. Не слишком заманчивые кафешки. Какие-то пьяницы бранятся с собственной тенью. Вдруг порыв ветра, налетевший сверху, разом сметает с крыш все, что на них застоялось, – и я уже окутан пыльным и едким дымом, не то зеленоватым, не то желтоватым, пощипывающим горло и ноздри. Уголь. Уголь, которым здесь, в краю работающих шахт, еще повсюду топят. Запах детства и бедности, запах печали, как будто в черных частичках сажи заключено горе, большое и маленькое, с последствиями и без, вечное и преходящее, пятнами оседающее на человеческих жизнях.
Падаль
Charogne
Au detour d’un sentier[5] порой вдруг вдыхаешь запах, звучный, сильный, осязаемый, взболтанный крылышками тысяч насекомых, для которых смерть – и промысел, и жизнь, и музыка. Вдыхаешь – и погружаешься в поэзию. Бодлеровскую, конечно же. Черную поэзию жизни и ее конца. Под открытым небом, вдали от всех погостов. Прекрасны небеса, плодоносящие деревья, цветы на живых изгородях. Зеленеет густая, причесанная трава, рыжеет земля, все поет, и вдруг ты натыкаешься на смерть. Дурманящую. Сладкую. Животную. Жуткую. Не такую уж и жуткую, впрочем. Скорее, досадную, как подгнившее рагу или остаток дичи, забытый на дне кастрюли. Часто – лишь запах, больше ничего. Останков животного не найти. А что, если так пахнет его призрак или наш страх? Много раз в лесах Серра, Фленваля, Юдивилье я искал трупы, почуяв их дух в ходе игры в полицейских и воров. Но кто здесь ворует? В выигрыше смерть, она забрала лису, прошитую дробью крестьянина, стыдливую кошку, ушедшую умирать подальше от хозяев, больную косулю, растерзанную бродячими собаками. А потом за дело берутся жара и тлен. Вздутое тело, газы, истечение соков. Остальное известно. Падаль, невыносимо запредельный цветок, скромна, как будто не смеет показаться на глаза. Скрытая. Неуспокоенная. Робкая. Что от нее остается – лишь яркая память. Падаль ни на что уже не похожа. Нечто бесформенное. Живое, устыдившись, укрылось в вони. Последнем своем пристанище. А потом подует свежий ветер с Вогезов, прольется дождик – и все кончено. Когда проходишь позже в том же месте, тебя встречают ландыши или боярышник в цвету, и только шуршат по мху осторожные шажки ласки.
Жнивье
Chaume
Иногда кажется, будто видишь большие головы с коротко остриженными волосами. Светлый ежик на сухой коже. По-военному. Конец июля, жара. Идет жатва. Косить – больше не косят. Все делает машина. Огромная, во всю ширину двухполосного шоссе, и по ночам пшеница, которую она жнет, освещается огнями межпланетного корабля. Когда все кончено, на месте моря колосьев остается лишь голая земля, лишенная своей пышной шевелюры. Лысина. Поля скошены. Через несколько недель их вспорют лемехи плугов, и, распаханные, они будут отдыхать в ожидании сева озимых. А пока корни срезанных стеблей еще привычно тянутся к влаге. Только немного жесткой соломы да не попавшие в кузов зерна прячутся в рытвинах, напоминая о том, что было. Прогуливаешься по дороге Трех Дев и, чуть не доходя часовенки Нотр-Дам-де-Питье, уже ощущая тень ее каштанов и журчание источника, идешь вдоль жнивья, пахнущего пекарней и теплым хлебом. Ветер над стерней вздымает в небо желтые вихри, которые в извивах света местами отливают серебром. Тучи. Маленькие безобидные циклоны. Кажется, будто попал в главу из Библии. Не успокоишься, пока вправду не найдешь Бога. Слетаются птицы, точно сухой дождь, сыплются большими черными каплями под взглядом акаций, выстроившихся колючими отрядами вдоль дороги. Птицы мародерствуют, отбирая у обреченного последние упавшие зерна пшеницы. Солнце припекает, нагревая пыль, стебли, растрескавшуюся землю, чудом уцелевшие колоски, одинокие, беззащитные перед клювами птиц и зубами грызунов. Тесто. Дрожжи. Опара. Мука и белый передник. Я закрываю глаза и переношусь к дверям Розы или Флорантена, двух булочных на улице Матье. Я рассекаю холодную ночь на велосипеде, мне навстречу движутся огни в скрежещущей музыке генераторов. Спешившись перед булочной, непослушными от холода пальцами толкаю дверь, открытую с пяти часов. Первая выпечка уже распространяет душистое тепло, багеты – мы зовем их дудочками – и фунтовые булки, именуемые здесь длинными хлебцами – рядком на полках или еще стиснутые в корзинах ждут первых покупателей. Это рабочие после ночной смены, старики и старушки, которым не спится, оттого что им одиноко, рыбаки, собравшиеся на утреннюю ловлю, проезжие дальнобойщики. Я засовываю хлеб между курткой и толстым свитером, поднимаю воротник и качу во весь опор обратно. Дом еще спит. Будет им сюрприз – свежий хлеб. Кузнечики и жаворонки, вместе или вразнобой, наяривают песню плохо заточенной пилы, силясь перепилить свет дня. Я миновал жнивье. Голое бугристое поле дрожит в жарком мареве. У каменной ограды за часовней я вкушаю тень, точно прохладное питье. Где вчера, где сейчас – все смешалось. И я, счастливый, кручу педали, еду домой, к нам, к кофе с молоком, маслу и клубничному варенью, а на груди у меня сладостный ожог, как будто кто-то засунул мне под куртку ломтик солнца.
Капуста
Chou
Селин – кажется, он – говорит о нем, как о запахе переваренной бедности. Капуста в супе на обед и на ужин, не сдобренная мясом, а этот запах неопрятных тел въедается в облупленные стены лестничных клеток, в подвалы и подъезды, в низкие потолки чердачных комнат, в затхлые привратницкие, заполняя каждую трещинку, словно ничего не склеивающий клей. Что-то вроде визитной карточки нищеты. Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кем ты никогда не будешь. Я, ребенок, стыжусь запаха капусты, и этот стыд может сравниться только с удовольствием, с которым я ее ем. До отвала. Да. Капустный суп. Тушеная капуста. Кролик с капустой. Капуста с салом, маленькие кочанчики брюссельской капусты, припущенные на сковороде, сохраняющие почти сырую сердцевинку, сами по себе или с картофелем, долго томятся под крышкой, чуть прилипая ко дну жирной карамелью, вбирающей в себя все их ароматы. Мои волосы и одежда выдают меня после обеда, как выдает нас жареное филе мерлана по пятницам. Но в этот день пахнем мы все, и хозяин тоже. А вот с капустой я зачастую одинок, и все демонстративно зажимают носы, когда я прохожу мимо. Остывшая капуста просто убийственна. От нее всегда что-то остается. Следы преступления. Зависший туман. Это неумелый убийца, которому даже в голову не приходит скрыть улики. Так пахнут иные старики, которых никто не любит и не навещает. Запах обреченных. Он стоит в домах престарелых и в следственных изоляторах. Как будто капуста – обязательный атрибут мест заключения, только она и сопровождает горе и кары, сопровождает их жизни до самого конца, жизни сломанные, поднадзорные, жизни испорченные, задушенные, разрушенные – и умирающие. Капуста – неотъемлемая часть приговора. И даже когда ее нет и не было вовсе, она – как только ухитряется? – все равно пахнет, что ты с ней поделаешь, в непроветренных комнатах, в грязных носках, под мышками, под юбками, трусами, повязками. Запах, неистребимый даже в своем отсутствии. Такой, в общем, банальный, что другие запахи, подражая ему, самозванно им становятся. В сущности, она – ничто, и, наверно, поэтому так долго была пищей тех, кто сами никто и звать никак, и так прочно въелась в их кожу. Непопулярная. Отверженная. Изгой. Лузер. Не стоит внимания. Я надеюсь, что от меня еще долго будет разить капустой.