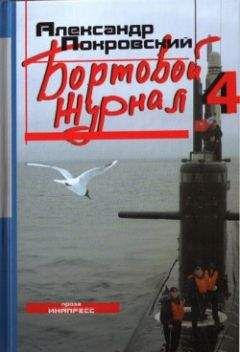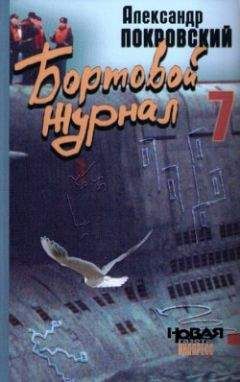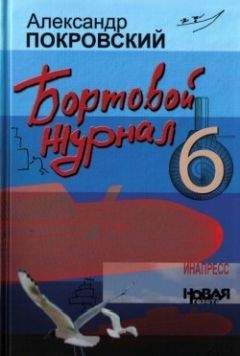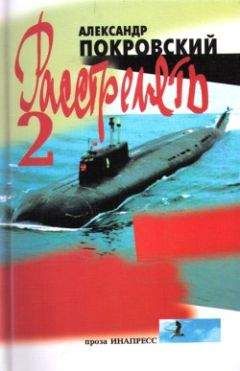Александр Покровский - Калямбра
– Ты что, злодей, на калямбру меня подсадил?
– На что? – говорит он и хлопает своими подозрительно ясными очами.
– Ты дитя-то неразумное из себя не строй. Не надо. Не было у тебя калямбры.
– Какой калямбры?
– Рогатой! Номер пятнадцать!
– Погоди, – говорит он и берет свой список, – под пятнадцатым номером у меня «калибр мерный». А он – вот! – и подает мне такую незначительную пиздюлину от часов, действительно мерную. – Читать не умеете?
И я сейчас же в список с головой. Я-то при чем, читали-то они. Действительно, никакой калямбры нет. Я в список – и на Неофитыча. В список – и на него. Нет калямбры.
– Неофитыч! – сказал я ему тогда. – Ну ты даешь!
ДЛЯ ЛЮБВИ
Я, как вижу двухгодичника, так сразу начинаю думать, что Бог нас создал для любви.
А для чего еще можно студента после института в офицеры призвать?
Только для любви.
То есть для того, чтоб мы его любили, а он взамен чтоб любил нас.
У меня даже взгляд от чувств теплеет, если я его на него перевожу.
А куда его еще деть, если на нем форма, а в лице все признаки амнезии?
Ну, можно его дежурным по штабу поставить.
Если, конечно, совсем рука тоскует по штурвалу.
Потому что штурвал обязательно будет.
Я дежурство сдавал. В пятницу это было. Я все журналы сложил стопкой и написал «Сдал» – «Принял», и кобуру, и пистолет, и повязку – ну все-все сложил.
Ему, то есть сменщику, только войти и расписаться, а мне – бегом на автобус, и рвать отсюда когти.
Но вот входит он – мама моя, точно, двухгодичник, ошибиться невозможно.
– Слушай, – говорит он, носом шмыгая, – а чего тут делать-то надо?
– Да ничего не надо делать, – говорю я ему осторожно, чтоб не спугнуть, – на телефоны отвечай, не заикаясь, и все. Пошли, – говорю, я ему, освоившись с положением, – начштаба доложим.
Пошли и доложили, и только я в рубке начал судорожно портфель всяким барахлом своим набивать, как появляется комдив.
А меня комдив не видит, потому что я сразу среди мебели потерялся. Я принял форму стула, и если б не глаза, то отличить меня было бы невозможно.
А комдив как вперился в студента, и свекольным соком все лицо его наливается и наливается.
Тот не то чтобы ему «смирно» крикнуть, тот никак его не видит. То есть он видит, но старается за него заглянуть, потому что комдив ему все загораживает. Он взглядом комдива отодвигает, а комдив наливается кровью и молчит.
Я подумал, что я сейчас просто сдохну, потому что его сейчас снимут, и я на вторые сутки здесь дежурить останусь.
А в голове у меня только это: «Как тоскуют руки по штурвалу!» – и больше ничего.
– Слушайте! – говорит этот орел комдиву. – Ну нельзя же так! Вы же мне все загораживаете! Отойдите, пожалуйста.
И комдив… у него шея пятнами… медленно поворачивается и… уходит… к себе…
А я – с грохотом по лестнице и на автобус.
А комдива на «скорой» следом увезли.
Инфаркт.
КОНСТРУКТОРЫ
Очень мне хочется какого-нибудь конструктора на лодку засунуть. Взять его за выступающие части и… погрузить. И чтоб не просто так, как в бассейне: тонем на ровном киле на глубине пятьдесят метров, а чтоб, как и положено, провалиться сперва на четыреста и, прея в подгузниках, проваливаться потом все дальше и дальше, несмотря на полное осушение цистерны быстрого погружения и всякое такое.
Почему-то хочется видеть смятение на его лице и пот, пропитавший подмышки.
Почему-то хочется, чтоб он заметался в поисках этого невыносимого дерьма весом в шестнадцать килограммов – нашего индивидуально-спасательного гондона пятьдесят девятого года рождения.
Хочется его на него надеть, подпоясать и чтоб он в пожаре с ним боролся целых двадцать минут, как это и предписывает инструкция, им же и изобретенная.
А я в этот момент хотел бы, попивая прохладную газировку, размышлять о том, что не совсем правильно он действует в предложенных условиях, не там мечется и не так; не обесточивает то электрооборудование и не закрывает тот клапан на переборке в корму, что в условиях дыма держит только один и восемь десятых килограмма по избыточному давлению, без чего переборка в целом не будет держать десять.
И еще я хотел бы, чтоб он самолично стокилограммовый плотик из отсека наверх выволок, чтоб он пять трапов по дороге с этим плотиком снял несуществующими ключами, что есть только в сумке у трюмного, которую в дыму не сыскать.
И потом я б его заставил люк последнего отсека отдраивать и задраивать и, находясь внутри шахты, нижнюю крышку люка, изломившись пополам, вручную подтягивать.
А во всплывающей камере, которую потерять в море – раз плюнуть, при перекосе корабля я б хотел, чтоб он нижнюю крышку этой самой камеры собственными руками герметизировал, а я б ему в промежутке дал подышать из того шланга, из которого вместо кислорода отчего-то угарный газ неожиданно попер, а потом опять погнал бы к этой проклятой крышке.
А после я б его подвел к своему компрессору, для проведения регламентных работ с которым надо обладать ростом в двадцать пять сантиметров и в толщину быть не более десяти, чтоб в ту щель, что они нам оставили, он у меня с детским плачем завалился.
У меня мичман перед теми работами мастерил себе металлическую руку на четырех шарнирах и всюду расставлял карманные зеркала.
А потом бы он у меня читал вслух инструкцию в разделе «неисправности» – там, где у него написано: «сменить предохранитель», – после чего он бы у меня менял этот предохранитель по триста раз, в надежде авось заработает, потому что не работает, хоть ты сдохни, а у него там из всех неисправностей забита только смена предохранителя – вот и пусть мучается.
Я же мучился.
У него же написано, что стационарные приборы на кислород не реагируют на колебания давления, а у нас, как компрессоры врубают, так все стрелки упали вниз, и ты бледнеешь, потому что это кислород, и весь экипаж на тебя как на придурка смотрит в надежде, что сейчас ты все объяснишь; а ты – в инструкцию, а там – полный порядок, и тогда ты начинаешь выдумывать всякую чушь лохматую, что, мол, раздатчики кислорода у нас на средней палубе, и именно с нее и засасывает в первую очередь воздух сверхмощными компрессорами.
А вы знаете, я конструкторов, в сущности, понимаю. Они когда инструкции писали, они, наверное, про себя говорили всякие слова. Например, «мял твою мать» или «прекрасная погода», и в тот момент это заменяло то нужное, что должны были в инструкцию включить, но по причине постоянного произнесения тех слов про «мать» постоянно забывали это сделать.
Вот и получилось, что они что-то знают, что-то до боли для них очевидное, но совершенно неизвестное таким подводным баранам, как мы.