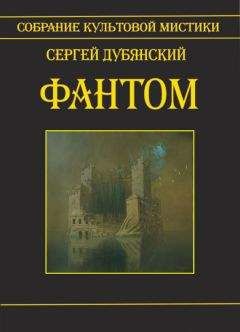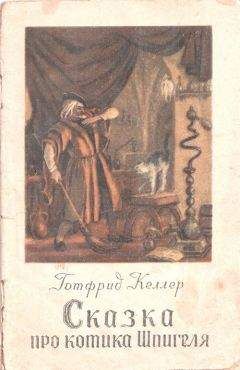Дан Цалка - ВЗГЛЯД, или СТОЛЕТИЕ СО ДНЯ СМЕРТИ ПУШКИНА
— Александр Сергеевич, — сказал башкирский князь, — неотложные дела требуют меня в Петербург.
— Чушь! Мертвому долги спишут! И убери-ка руку с пояса, а то я тебе вмиг лоб раскрою! — обратился поэт к одному из спутников князя.
— Господа, будьте милосердны! Потише, пожалуйста. Здесь лежит тяжелобольной, — проговорил один монах, тот, что ниже ростом. Все посмотрели в его сторону. Тощий старик, закутанный в потертый тулупчик, живой скелет, кожа да кости, лежал, привалившись к стене. Он приоткрыл глаза и улыбнулся, его улыбка появилась на лице помимо его сознания, как у младенца. Пушкин обратился к маленькому монаху:
— Тебя как зовут?
— Пантелей, ваша светлость, — ответил монах.
— Возьми этот порошок, Пантелей, и дай ему. Пусть проглотит.
Маленький монах поцеловал замерзший рукав.
Башкирский князь тем временем перешептывался со своими головорезами.
— Александр Сергеевич, — сказал он. — Вы меня вызвали на дуэль. Я принимаю вызов, но прошу отложить дело на полгода. Я предлагаю… метнуть банк… кто выиграет — получит Зюльнару. Если вы выиграете, получите еще 600 рублей. А через полгода встретимся, где только пожелаете.
— В карты… на любимую женщину… Да вы, сударь, подлец… Зюльнара… Шакал, как есть шакал! — процедил Пушкин. — Стреляться! Хватит шутки шутить!
— Александр Сергеевич! 1000 рублей!
— Сколько вы сказали?
— Тысяча, — тихо выговорил Аскар Байбек.
— Ну, что скажешь, Гриша?
— Дуэль отложите, а в карты не играйте. Мошенники они, за версту видать.
— Что ж, или мои руки так свело подагрой, что я и банк метнуть не могу?
— Александр Сергеевич, одумайтесь!
— Что мне не дает покоя, Гриша, что мне не дает покоя, так это честно ли будет отложить дуэль, коль скоро я его оскорбил?
— Да вы же сами его шакалом назвали, мышью полевой. О каком деле чести может идти речь с этими презренными людишками?
— C'etait une facon de parler, Grisha. C'est quand meme un prince du sang…
— Mais quel sang, bon Dieu… C'est du sang Bachkir… Vous exagerez, Alexandre Sergueievitch…
— Que savons-nous de tout cela, mon cher? Qui s'y connat veritablement?
— C'est du sang Bachkir… — упорствовал мой отец.
— Laissons plutot leur voile a ces mysteres[5], - сказал Пушкин задумчиво. Он энергично прошелся по хижине, снова приблизился к Зюльнаре, откинул расшитое тюльпанами покрывало, долго всматривался в девичье лицо и наконец сказал:
— Воля ваша, Аскар Байбек! Сыграем!
— Александр… — начал было мой отец.
— Играем! Mon parti est pris!
— И что же дальше? — спросил я.
— А что могло быть дальше? — ответил старый сын Яковлева. Карты были засаленные и рваные, а может быть, и крапленые, Пушкин проиграл. Потом проиграл еще триста рублей и выдал вексель. А Аскар Байбек был уверен, что дуэли не будет. Потратить триста рублей, чтобы к тому же убить кого-то, кого ты едва знаешь?! Тут проснулась Зюльнара и при виде Пушкина вскрикнула. И тогда, даже несмотря на то, что был в болезненном забытьи, пробудился старый монах, огляделся по сторонам, понять, что за крик такой. Но мог ли он различить башкирских негодяев, полоумного татарина, закутанную в розовые шелка и обвешанную браслетами и монистами девицу из гарема, Пушкина или моего отца? Их для него не существовало. Однако Пушкин увидел лицо старика, увидел его чистый, детски-наивный взгляд и странную мудрость, светящуюся в нем, его беспредельную любовь — понимаете ли, доктор? — любовь, подобной которой не встречал. Улыбка монаха… она и когда угасла, не сменилась горькой или болезненной гримасой, как то случается даже у самых неотразимых красавиц. Нет, то впечатленье надолго врезалось ему в память, подобно последнему отблеску заката на вечернем небе. Пушкин хотел взять голову старика в обе руки и поцеловать его в темя.
Он обратился к маленькому монаху:
— Как твое имя?
— Пантелей, ваша светлость, — отвечал монах тихим, надтреснутым голосом.
— Жар не прошел?
— Не прошел, ваша светлость, не прошел.
— Кто это, Пантелей?
Великое изумление отобразилось на лице маленького монаха.
— Да это же, ваша светлость, отец Серафим…
— Серафим? — повторил Пушкин.
Пытаясь скрыть стыд, оттого что такой знатный господин, может, офицер, а может, важный чиновник, не слыхал о Серафиме, монах прошептал:
— Возможно ли, благодетель мой, что вы не слыхали о чудесах, которые он сотворил, о долгих годах, которые провел в полнейшем уединении, наложив на себя обет молчания?
— Наложив на себя обет молчания? — повторил следом поэт.
— Никогда человек не раскаивался в том, что молчал, говорил отец Серафим, — прошептал монах.
Пушкин невесело усмехнулся.
— Расскажи мне, Пантелей, он, видно, много страдал?
— Он страдал любовью, благодетель мой. Как-то раз отец Серафим наставлял нас: когда святой Антоний был взят на небо — вы, верно, слыхали, ваша светлость, о святом Антонии из Египетской пустыни, — пришел он к Спасителю нашему и сказал: где же ты был, милосердный наш Спаситель, когда недруги терзали меня в пустыне? — Я был с тобою, мой Антоний, и видел твой подвиг… Во всякую ночь отец Серафим взбирался на большой камень и возносил на нем молитву, однажды, когда на него напали разбойники, он их и пальцем не тронул, а они покалечили его на всю жизнь. Страшные болезни истязали его, а он ничего не ел, только зелень и траву полевую — долгие годы. Всякий день отбивал тысячу поклонов, ваша светлость. А когда страдал от ужасного недуга, целых три года подряд, явилась к нему Богородица и Петр и Павел по обе стороны от нее и сказала ему: наш ты будешь, человече! — и выпустила из его тела водянку. Вы, верно, и не знаете, ваша светлость, что когда он был семи лет отроду, свалился с колокольни, которую строил на свои средства его отец, и матушка его уверена была, что отдал Богу душу, — и вдруг она видит, как он стоит себе внизу и смеется. Может, оттого и согласилась, чтоб он стал монахом, и дала ему большой медный крест, который он и по сей день носит на груди и никогда не снимает, как не снимает и котомки, что у него за спиной, — там у него Святые Евангелия, чтобы никогда не забывать о кресте, который нес наш Спаситель.
Пушкин посмотрел на спящего монаха. Голова его покоилась на старой кожаной котомке, а из-под странного тулупчика, прикрывавшего тело, выглядывал черный крест.
— А я, благодетель мой, в смирении и убогости и в робости великой осмелюсь спросить, кто он, этот господин, что не слыхал об отце Серафиме?
Пушкин пристально взглянул на него и, увидев, что тот в страхе отпрянул, потянул его за руку и ласково погладил поверх ладони.
— Сожалею, очень сожалею, что никогда не слыхал я об этом святом человеке, — сказал. — А зовут меня Александр Пушкин, я сочиняю стихи, порой танцую, порой записываю дела далеких дней.
— Надеюсь я, мой благодетель, что ваши стихи и ваши танцы, как и записи святых деяний, будут угодны Господу, подобно тому, как были Ему любезны сочинения царя Давида, мир праху его.
Пушкин смотрел на него с удивлением.
— Спасибо тебе, Пантелей.
И в тот вечер, доктор, он написал свое стихотворение «Пророк»:
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился…
Вы, доктор, знаете это стихотворение, ведь всякий русский ребенок его знает. Оно, правда, несколько отличалось от того, которое было опубликовано в сентябре 1826 года, полтора года спустя, в «Московском вестнике». Там говорилось о камне, о котомке, о медном кресте. Вот что рассказал мне отец, доктор. Слушайте меня внимательно. Он сказал, что в то мгновенье можно было убедиться в том, кто предпочтительнее — Пушкин или Серафим. Можно сказать, что мой отец ответил на вопрос Бердяева еще до того, как тот его задал. Кто предпочтительнее — обратите внимание, не у кого больше права на существование. Отец сказал, что предпочтителен Пушкин, ибо он своим взглядом разглядел Святого Серафима, а тот своим взглядом не увидел Пушкина. А Пушкин, доктор, увидел Серафима невзирая на то, что тот был грязен и в отрепьях, невзирая на то, что сам он искал и преследовал Зюльнару, невзирая на то, что готов был из-за нее убить человека и готов был проиграть ее в карты и еще что был готов из-за таких пустяков погибнуть на снегу, в лютый мороз. Только потому, что он увидел Серафима, только из-за этого взгляда, одного только своего взгляда, Пушкин превыше Серафима, сказал мой отец.
Дима Шпигель глядел на светящееся, живое лицо Черниховского.
— Вы правы, надо ответить Модзелевичу. Нельзя чтобы ненависть к инородцам, вскормленная в местечке, царила в мире наших книг.
Черниховский все еще посматривал на него с недоверием, а Дима продолжал:
— А что касается его замечаний по поводу вашей «Илиады», если уж вы обратили внимание на такую малость, тут я сам отвечу этому негодяю. Вы же поэт, а не лингвист! Чего он хочет? Чтобы вы изобрели какое-нибудь темное словцо вместо греческого апоскудмайнэ? Совершенно непонятное слово с чудным звучанием? Чудовищный педант! Я ему покажу…