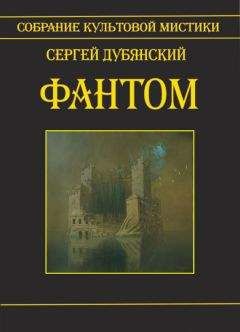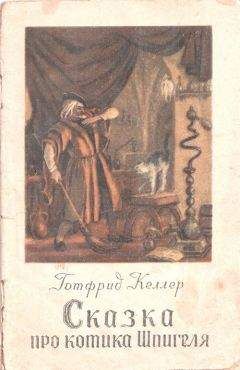Дан Цалка - ВЗГЛЯД, или СТОЛЕТИЕ СО ДНЯ СМЕРТИ ПУШКИНА
— Пустая болтовня, — отмахнулась Кира.
На лице Димы отразилось изумление:
— Где ж это он видел такую рукопись?
— В Петербургском архиве.
— До чего ж вы ненавидите Модзелевича, — съязвила Кира Тамзина.
Лицо Черниховского выражало обиду.
— Артиллерийский офицер спросил архивариуса, откуда этот лист, а тот ответил, что получил его от секретаря гофмаршала Долгорукого. Он пришел в архив изрядно выпивши и в самом жалком виде: «Надеюсь, Валя не рассердится!» — сказал.
— Я ни разу не слыхал об этой рукописи, и мне трудно поверить, что все это правда, — заметил Дима.
— Я слышал о Левинтоне от его внука, разговаривал с тем офицером… да разве само стихотворение ничего не доказывает? — воскликнул Черниховский тихо, почти шепотом, а затем несколько возвысил голос, обводя взволнованным взглядом Киру и Диму:
В еврейской хижине лампада
В одном углу бледна горит,
Перед лампадою старик
Читает Библию. Седые
На книгу падают власы.
Над колыбелию пустой
Еврейка плачет молодая.
Сидит в другом углу, главой
Поникнув, молодой еврей,
Глубоко в думу погруженный.
В печальной хижине старушка
Готовит позднюю трапезу.
Старик, закрыв святую книгу,
Застежки медные сомкнул.
Старуха ставит бедный ужин
На стол и всю семью зовет.
Никто нейдет, забыв о пище.
Текут в безмолвии часы.
Уснуло всё под сенью ночи.
Еврейской хижины одной
Не посетил отрадный сон.
На колокольне городской
Бьет полночь. — Вдруг рукой тяжелой
Стучатся к ним. Семья вздрогнула.
Младой еврей встает и дверь
С недоуменьем отворяет —
И входит незнакомый странник.
В его руке дорожный посох.
— Почему вы перевели «еврей» словом «иври»? — спросила Кира.
— Это не я перевел, а Фришман[3]. А как, по-твоему, следовало перевести?
— Следовало бы вам, Шаул-л-ль, — сказала Кира, — поменьше верить, что если вы кого-то любите, то и он вас любит.
Черниховский неожиданно покраснел, а мгновение спустя покраснел еще сильнее. Он посмотрел на Диму.
— Только их мелкие писатели симпатизировали нам. Великие нас презирали или были полностью индифферентны, — сказал Дима. — И признайте, что все это стихотворение — сплошная банальщина.
— Только слова банальны! — воскликнул Черниховский. — Он взглянул на раскрасневшееся лицо Киры Тамзиной, на свежие пятна соуса у ней на платье… Видно было, что хотя Черниховский задет ее словами, именно недоверие Димы мучает его. Он посмотрел на ермолку на Диминой голове, будто это она была виновна в его скепсисе. «Не веришь, — сказал он, — что ж, расскажу тебе историю о Пушкине, которую ты не слыхал, которую никто не слыхал, ни Гершензон, ни Айхенвальд, ни Лернер и ни один из ученых неевреев. Знакомо ли тебе имя Яковлева?»
— Заведующий типографией?
— Нет…
— Кто-то из семьи художника?
— Верно. Его младший брат. А известно ли тебе о его связи с Пушкиным?
— Товарищ по кутежам? Снежный буран? Ловелас из Перми?
— Ну так слушай. Однажды ночью в госпиталь имени Св. Серафима Саровского привезли старика, лет так восьмидесяти. Он перенес две или три грыжи да к тому же был болен тяжелым воспалением легких. Он был истощен, страдал от жара и галлюцинаций. В лазарете было несколько ящиков с ладанками, изображающими Св. Серафима, — какой-то богатый купец из Минска пожертвовал их лазарету, когда началась война. Ладанки были маленькие, жестяные — в общем, грошовые. Одна сестра была настолько уверена, что старик кончается, что принесла ему ладанку, приблизила к его губам, а потом провертела ножом в жестяном кружочке две дырочки и повесила на шнурке ему на шею. Я привязался к старику и проводил с ним все свободное время. И надо же — случилось чудо! Он стал выздоравливать. Как-то заметил у меня под походной койкой кипу книг и спросил:
— Из читающих будете, доктор?
— Из читающих.
— Я вот тоже читаю, — сказал тот старик Яковлев, — только главное словами не расскажешь.
— Это вы о чем?
— Это я о взгляде. А вы что думаете?
— Мне-то откуда знать? Я врач, моя задача знать тело, а душу я оставляю на попечение религиозных служителей.
— Послушайте, доктор, а я вам расскажу свою историю, которую прежде никому не рассказывал, — сказал старец, глядя на висевшую у него на шее ладанку. — Верно, слыхали о средах у Иванова, в доме, что против Таврического сада, на седьмом этаже, который обычно называли «Башней»? Председательствовал там всегда Бердяев. Иванов его любил. Однажды наскучили Бердяеву бесконечные стихи, которые читали там поэты, каждый из них надеялся удостоиться своей порции воскурений с колеблемого треножника, и сказал: «В начале прошлого столетия жили в России два необыкновенных человека: самый удивительный из всех русских гениев, Пушкин, и самый великий на Руси святой, Серафим Саровский. То были два отдельных мира. Они не знали друг друга и ни намека на связь не было между ними, даже слышать друг о друге им не довелось. Их и сравнивать между собою невозможно, потому что нет им общего мерила. И вот я вас спрашиваю, не было ли б лучше, если бы одного из них не существовало бы? Чтобы вместо этих двоих было бы два Пушкина или два Серафима? Пушкин себя погубил, Серафим себя спас. Пушкин сгубил душу в творчестве, Серафим спас свою душу великим духовным подвижничеством, которое сравнимо разве что с великими отшельниками на заре христианства. Что вы об этом думаете? Кто, по-вашему, дороже, хотя бы и на самую малость?» Бердяев, доктор, был там, как Даниил в львином рву, среди символистов и декадентов… Слушаете вы меня, доктор?
— Я весь внимание, Анатолий Григорьевич, — отвечал я ему.
— А я сижу там и размышляю про себя: сказать или нет? Неверно это, что они при жизни не встречались. Мне об этом отец рассказывал. Но я боялся, что важные господа посмеются надо мной, провинциалом, и молчал. Мне хотелось передать им слова отца: есть одна маленькая причина, по которой Пушкин предпочтительнее святого. Мой отец, как вы, наверное, слыхали, был в молодости большим кутилой, лошади, карты, много пил, многих женщин любил, много наделал долгов и на многих дуэлях стрелялся. Он любил стрелять. Однажды случилось ему оказаться в маленькой хижине. Это случилось в одну из снежных бурь, которые так любы были нашим отцам, даже еще более по душе, чем морские бури или чем снежные вершины гор, я, понятное дело, имею в виду, что любо было им рисовать их в своем воображении. Хижинка была донельзя убога, и не было в ней ни крошки хлеба. Какой-то сумасшедший татарин испускал истошные крики, два монаха сидели молча, башкирский князь играл в карты с каким-то чичиковым, у которого ворот рубашки весь промок от пота, и два молодца из свиты башкирского князя, казалось, готовы перерезать этому чичикову горло по первому знаку своего господина. Да впридачу метель — двадцать семь часов кряду.
Мой отец не знал, что делать. Разве вступить в игру с азиатскими разбойниками? Внезапно от сильного пинка примерзшая дверь распахнулась, и в комнату ввалился человек, закутанный в кучу пальто и одеял, сжимая в рукавице кнут. Он быстро стряхнул с себя свое облачение. Курчавые волосы, горящие глаза, густые бакенбарды…
— Александр Сергеевич! Что занесло вас в наши края? — воскликнул отец при виде Пушкина.
— Уйди с дороги, Гриша, — сказал Пушкин и одним прыжком подскочил к башкирскому князю.
— Негодяй, каналья, мошенник, подлец! Где она, любовь моей души? Где моя красавица? Где моя сладчайшая Зюльнара? Что ты с ней сделал, Аскар Байбек? Что ты с ней сделал, шакал поганый? Если хоть один волос упал с ее головы, не уйти тебе отсюда живым. Отвечай немедленно: где Зюльнара?
— Здесь она! Здесь, Александр Сергеевич! — отвечал князь, приподымая расшитое покрывало с лежащей рядом женщины. Женщина спала, как котенок, свернувшись клубочком.
— Давай, князь, выйдем и порешим дело разом. Я вижу, тут у тебя есть двое почтенных друзей, вот и я повстречал тут друга. Ты согласен быть моим секундантом, Гриша?
— Александр Сергеевич… Метель… Так и пистолета в руке не увидишь… Как на курок-то жать в эдакую метель?..
— Чушь! Mon parti est pris![4] — отрезал Пушкин, — всякая погода хороша, чтоб родиться, и всякая погода хороша, чтоб умереть, особенно, когда речь идет о полевой мыши.
— Тут какое-то недоразумение, Александр Сергеевич, — возразил неспешно Аскар Байбек.
— Недоразумение, какое бывает у карманника с торговцем: случайно рука одного оказалась в кармане у другого. Пойдем, Аскар Байбек, пойдем выйдем. Довольно языком молоть.
— Александр Сергеевич! — вскричал мой отец.
— Александр Сергеевич, — сказал башкирский князь, — неотложные дела требуют меня в Петербург.