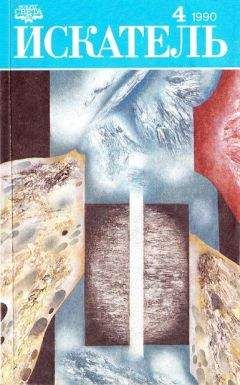Игорь Мощицкий - Иосиф и Фёдор
А работа в ЛИТО газеты “Смена” строилась так: члены ЛИТО по очереди проходили процедуру обсуждения своих творений, причем некоторые ждали своей очереди по году и могли не дождаться. Начиналось обсуждение с чтения автором своих стихов (прозаиков у нас почти не было, о драматургах и не говорю), затем слово брали оппоненты (это те, кто знакомился с обсуждаемыми стихами заранее; их, как правило, было двое), а дальше выступали все, кто хотел, после чего автору предоставлялось последнее слово. Подводил итог обсуждению руководитель, каждый раз стараясь сказать что-то умное и неожиданное. Это иногда получалось, иногда нет. Если стихи слабые, то и говорить было не о чем. Впрочем, совсем уж слабые стихи на обсуждение старались не пропускать.
Я своего первого обсуждения дождался примерно через полгода после вступления в ЛИТО. Особого успеха не снискал, но всех рассмешил коротеньким стихотворением:
Когда подходит любви предел,
Люди по-разному лгут:
Английский лорд говорит: “Верри вел”,
Немец буркает: “Гут”.
Мне эта мысль не казалась пошла,
И, верен природе своей,
Когда от меня ты совсем ушла,
Сказал я: “О зухен вэй”.
Молодой поэт Дмитрий Минин под улыбки присутствующих сказал тогда, что стихотворение ему очень понравилось, он увидел в нем глубокий интернациональный смысл, и ему пришлась по душе хорошая позиция автора. Зато незабвенный Сергей Александрович Кобысов усмотрел в моем опусе идеологическую диверсию.
После обсуждения ко мне подошел Бродский и вернул странички с моими стихами.
– Не так уж много здесь образов, – сказал он, испытывая, как мне показалось, неловкость. Сказал и исчез.
Воспитанный наставлениями Наймана и Бобышева (с которыми Бродский еще не был знаком), я не раз говорил ему, что в стихотворении главное – художественный образ. Как раз этой самой образности ему в моих стихах и не хватило. Он ожидал от меня большего. Но все же, когда пришел его час, он попросил меня стать одним из его оппонентов. Кто был вторым, я не помню.
Обсуждение стихов Бродского прошло спокойно: больше хвалили, чем ругали, хотя честно могу сказать: его стихи были лучше, чем у других. Не зря же от всего, что я полтора года еженедельно слушал в редакции “Смены”, в голове у меня застряли только его строчки и больше ничьи. Например: “В такую ночь ворочаться в постели приятней, чем стоять на пьедестале”. Это он о памятнике Пушкину. Или: “Время, оно уходит, раны оно не лечит”. Это в девятнадцать-то лет.
После обсуждения произошел забавный эпизод. Я подошел к Бродскому в коридоре, чтобы вернуть странички с его стихами. Бродский странно взглянул на меня, видно, еще не отошел от обсуждения.
– Оставь себе. У меня много таких копий, – сказал он тоном человека, делающего царский подарок.
“Нужны мне твои стихи”, – подумал я, но стихи у себя оставил.
Эти стихи пролежали у меня в столе много лет, но однажды, когда Бродский уже давно жил за границей, ко мне зашел молодой композитор и пожаловался, что нет подходящих текстов для песен.
– Если ты справишься со стихами Бродского, то флаг тебе в руки. Но учти, с возвратом, – сказал я и отдал ему странички, подаренные мне Бродским.
Песен на стихи Бродского юный композитор не написал и стихи не отдал. На просьбу их вернуть нагло заявил:
– У меня их нет.
“Какой же я дурак! Отдал ранние стихи Бродского первому встречному. Может, их копии в природе не существует”, – печалился я и успокоился только, когда узнал, что все эти стихи сохранились в рукописном варианте и, возможно, когда-нибудь войдут в академическое собрание его сочинений.
А в тот вечер, когда обсуждались ранние стихи Бродского, на улицу мы вышли вместе с моим сокурсником Федей. Он часто захаживал в редакцию “Смены” вместе со мной. Некоторое время мы шли молча, а потом Федя сказал:
– Я думаю, если Ося не изменит себе и звезды сложатся, как надо, он станет большим поэтом. Он очень талантлив.
Я про себя возмутился: “Как это Бродский будет большим поэтом? А я?”
Но Федя продолжал:
– А стихотворение “Художник” будут в школе учить наизусть. Вот увидишь.
– И скоро начнут? – съязвил я.
– Скоро. Лет через пятнадцать, – сказал Федя уверенно.
Я усмехнулся про себя. Какой из Бродского классик? Вот, например, блистательный Лермонтов или роскошный Блок, о Пушкине и не говорю, все они с детства даже внешне были похожи на гениев. А тут худенький, бедно одетый, да к тому же еще рыжий мальчик. Нет, Федя явно погорячился. И все же слова Феди, сказанные задолго до пришедшей к Бродскому известности, подтвердились. Правда, только наполовину. Бродский действительно вошел в школьную программу, но стихотворение “Художник” в школе не проходят. И, по-моему, зря.
Однажды Герман Борисович предложил Бродскому, мне и еще кому-то помочь провести одну из литературных консультаций, на которые раз в неделю стекались начинающие авторы со всего города. Мы должны были оценить их труд, отсечь бездарностей, а людей способных (предполагалось, что их будет немного) пригласить в ЛИТО. Я и сам попал в ЛИТО таким образом. В назначенное время мы пришли в редакцию и начали прием. Я честно изучал ерунду, которую мне показывали, и ни одного таланта не обнаружил. Зато Бродский сразу нашел гения, притащил его к Герману Борисовичу, и началась дискуссия. Когда все наши клиенты, включая открытого Бродским гения, ушли, дискуссия продолжилась.
– Пойми, Ося, – говорил Герман Борисович, – сейчас, когда идет такая борьба с пьянством, нельзя поощрять рассказ, где главный герой – пьяница. Пусть напишет другой рассказ и приходит.
– Да не придет он сюда больше, – горевал Бродский.
– Это его дело. А мне, Ося, домой пора, – заключил Герман Борисович, но Бродский продолжал наскакивать на него. Никогда больше я не видел, чтобы один автор был в таком отчаянии из-за несправедливости к другому автору.
Впрочем, Бродский тоже мог быть несправедлив. В то время в БДТ с огромным успехом шла пьеса Володина “Пять вечеров”, и я с разрешения Германа Борисовича пригласил его к нам в ЛИТО. Он пришел, но лучше бы я его не приглашал. То есть вроде бы все шло неплохо. Александр Моисеевич, как всегда, баловал неожиданными репризами, вроде: “Я выбрал для себя драматургию, а не прозу потому, что плохо живопишу”. Так он почему-то считал. Позже я познакомился с его прозой, и она оказалась чудесной.
Потом он перешел на любимую тему о том, что все самое интересное в его пьесах подсмотрено в жизни.
– Вы можете придумать интересно, талантливо, но точнее и интересней того, что в жизни, все равно не придумаете. Даже не пытайтесь, – убеждал он и привел для примера пару подслушанных им в жизни реплик из спектакля “Пять вечеров”: “А я решила покраситься, никогда еще брюнеткой не была” и “Эх, в Индию бы тебе. Там на одну женщину полторы мужчины приходится. Хоть половинка бы тебе досталась”.
Реплик, подслушанных им в Технологическом институте, он произносить не стал, помня о моем присутствии.
Разговор перешел на современную литературу. Заспорили о молодом Евтушенко.
– Да ну его. Одевается, как попугай. И вообще, нарцисс. Ну что это, как не самолюбование: “Я разный – я натруженный и праздный. Я целе- и нецелесообразный”? – пробурчал Гоппе.
– Зато у этого стихотворения финал классный, – возразила какая-то девушка и прочитала:
Пою и пью,
не думая о смерти,
раскинув руки,
падаю в траву,
и если я умру
на белом свете,
то я умру от счастья,
что живу.
– Ну и что? Молодой дурак радуется жизни. Что тут особенного? – продолжал ворчать Герман Борисович.
– А вот другое его стихотворение, может, оно вам больше понравится, – сказал Володин и прочитал:
Твердили пастыри, что вреден
и неразумен Галилей,
но, как показывает время:
кто неразумен, тот умней.
Ученый, сверстник Галилея,
был Галилея не глупее.
Он знал, что вертится земля,
но у него была семья.
Володин прекрасно умел читать стихи, я это помнил. Однако на этот раз он читал скороговоркой, словно боялся испортить стихотворение актерскими прибамбасами. И Герман Борисович оценил и стихотворение, и исполнение.
– Когда он это написал? – заинтересовался он.
– Совсем недавно, – сказал Володин.
– А что, неплохо. Будем считать, что у нас появился первый поэт – стиляга, – компромиссно заключил Гоппе.
– Да это типичные эстрадные стихи, – неожиданно заявил Бродский.
Это была не первая реплика, которой Бродский пытался достать Володина, и я уже сильно жалел, что привел его сюда. С пьесами Володина Бродский знаком не был, но почему-то с самого начала встречи всячески старался показать, что знаменитый драматург для него – никто. Предыдущие реплики Бродского Володин и Гоппе пропустили мимо ушей, но на последнюю Герман Борисович ответил, правда, без обычной жесткости в голосе, чтобы не обидеть Бродского.