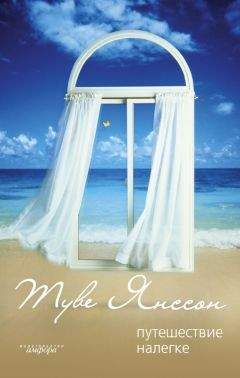Томмазо Ландольфи - Жена Гоголя и другие истории
Зловеще звучит этот смех. Подождите! Она уже на площадке наружной лестницы, той, что выходит во двор старого дома. Или это мы поднялись сюда? Или я? Ну конечно же, это я. Я уже в воздухе и вижу сверху этот хохот. Он висит надо мной совсем недолго. Огромная воздушная воронка втягивает нас в свинцовую глубину. Мы опускаемся все ниже, в глубь отверстия. Оттуда, из отверстия, и доносится этот леденящий душу хохот. Ничего, кроме хохота, здесь нет. Прощайте, полеты над Серра-Каприола, вольные взмахи рук над горными долинами. Какой ужас — мы падаем! Помогите, люди! Вот оно — средоточие смеха. То есть было здесь только что. Где же оно? Где искать его теперь, этот жуткий гогот. Но не такой уж он и страшный, если разобраться. Он играет в прятки, ускользает сквозь закрытые двери, как домовой... Домой! Вот он — дом. Но тот, другой дом, остался в стороне. Другой дом! Где он? Чтобы его найти, нужно пробежать через несколько комнат, заглянуть и в те, куда можно попасть, только поднявшись по внутренней лестнице. Но для этого не обязательно обходить все коридоры на втором этаже. Хотя нет — следует непременно спуститься вниз по деревянной винтовой лестнице, ведущей в кухню. Оказавшись внизу, лучше всего поискать сначала в кладовой, куда ведет сразу напротив лестницы. Ну конечно же, он спрятался в кладовой. Чудак, спрятался за дверью! Она никогда не открывается до конца. Позади всегда остается немного места, чтобы спрятаться. Разумеется, он за дверью. Когда поймет, что пойман, он весело рассмеется. Вот и кладовая. Никто не смеется — тишина. Жалко: искали-искали — не нашли. Где же он прячется? Наверное, за шкапом и снова улизнул во двор. Теперь бы отдохнуть, чуточку! Можно присесть на дрова. Все вокруг сияет так ярко, словно посеребренное. Видно окрест далеко и резко! За спиной охотничья сумка для дичи. Известно, что там внутри — за сеткой из мух кусок соленого сыра, обрывок плотной шершавой бумаги, в которую обычно заворачивают макароны (непонятно, зачем она в охотничьей сумке), и... Но что это? Ах, да — куропатка... Куропатка. В углу вертел, с другой стороны — кухонные горшки — целая пирамида горшков: широкие внизу, узкие вверху, над ними нанизанные на провод крышки, гирлянда из крышек, тоже по размеру, от самых больших до самых маленьких. Отверстие резервуара для воды. Засов в промасленной бумаге висит на гвозде. Корзина, полная сухих листьев. В ней три тарелки. И почему только эту комнату назвали кладовкой? У противоположной от двери стены — раковина. Сейчас она без воды. В раковине моют посуду. На дне отверстие для слива. Сама раковина овально-вогнутой формы. Наверное, потому и называется раковиной. Что еще в кладовке? Изъеденные жучком балки под грязным темно-бурым потолком. На полу подернутая застывшей пленкой лужица крови — лоскут свиной перепонки. Что можно сказать о перепонке? Сказать нечего. Перепонка, и все. Вот именно — перепонка. Какое смешное, нелепое слово. Еще на полу несколько картофелин, обтянутых узорчатой кожей. Клубни похожи на каких-то странных черепах. Вытянули головки на длинных трубчатых шеях, прикрепленных к бугорчатому телу. Шея и головка — зеленые, панцирь землистого цвета. Странные существа. Головка обтянута гладкой тугой кожицей, а тело все в морщинах. Похоже на... На что? Да так, ерунда... Все-таки очень похоже на то, как у собак нет-нет да и выглянет нежно-розовое щупальце, тугое, подвижное и чувствительное, будто улиткины рожки. Только тверже... Странные твари эти собаки: собачий, щенячий... Как трудно дойти до смысла! Картофель, картошка, картечь... По-другому понятней — тошка. Красивое слово.
— Почисти, пожалуйста, тошку и нарежь ее соломкой!
И все-таки есть какая-то тайна в этих клубнях картошки, то есть у тошек, в тугой выпуклости их наростов. Тайна — прочь смех, шутки! Об этом нельзя даже наедине с собой. Можно одно — отыскать самый темный уголок сердца и притаиться в нем. Поразмышлять... Нет — надеяться, что в конце концов откроется тайна. Тайна нежного щупальца. Невеселые мысли. Одно отчаяние, оцепенение, тоска. Попробовать, как всегда, по-другому. Вот слово: отверстие. Слово как слово. Ничего в нем нет. Отверстие, и все. Отчего пришло оно на ум? Все просто — прямо перед тобой зияет огромная дыра. Нет, не в раковине, а в кафельном полу черная грязная воронка для слива помоев.
Но все предметы вдруг растворились в воздухе. Не видно ничего. Огромное черное отверстие, подобно тому, как раньше пасть морского чудовища, закрыло собой горизонт. Но оно не исторгает воплей. Оно молчит. И не правда, что оно закрыло собой горизонт. Пустая фраза! Оно осталось там, где было, — на уровне кафельной воронки, грязной, с подтеками жирной воды. Главное другое — а вдруг из этой дыры вылезет какое-нибудь странное, жуткое существо, невиданное страшилище?! Если выползет отсюда, то уж не остановится — пойдет по всему дому. Оно способно проникнуть везде, чуткое и настойчивое существо. Может спрятаться под подушкой, свиться в клубок под мышкой у спящего. Как глупо — не подумать об этом раньше! Ну а при чем здесь новое слово? Любовь. Это слово здесь ни к чему. Отверстие и любовь — взаимно отталкивают друг друга.
Тело Розальбы цепенеет от ужаса. Страх не дает закрыть глаза. Заставляет держать широко раскрытыми. Зрачки неподвижны, темны. Застыли как омут. Эти глаза вбирают в себя все что ни на есть вокруг. В центре вселенной — черное отверстие. В нем как будто начинало расти, подниматься с усилием нечто гибкое и пружинистое, способное сжаться и тотчас расправиться, словно кот, пролезающий в приоткрытую дверь. Нечто темное и липкое — голова, шея, туловище. Еще трудно различить его очертания во мраке, но по мере того, как это нечто вылезает из отверстия, понимаешь, что у него есть голова, шея и туловище. Их можно видеть или даже осязать, если между зрением и осязанием есть хоть какая-то связь... Значит, это живое существо — животное. Но явления, одушевлены они или нет, явления, вызывающие содрогание души, наполняющие нас осмотрительным чутким страхом, явления чудовищные и небывалые, никогда не бывают доступны для наблюдения, раскрывающего его в мельчайших подробностях[18]. Вот почему нельзя сказать, как в точности было сложено это существо. Но у него были под роговой оболочкой твердые вдавленные глаза, как у слепых животных, мутные, подернутые пеленой; морда обтянутая липкой тонкой кожицей, длинные тонкие и чувствительные усики — они вздрагивали и шевелились на воздухе. Если вглядеться, то и морда вздрагивала и сокращалась, будто у кролика; под кожицей лица пробегали какие-то волны. Мы не оговорились — голова существа, вздымавшаяся над высокой и изборожденной влажными складками шеей, обладала лицом, в котором проступали прямо-таки человеческие черты. Глаза были посажены прямо, а не по бокам или сверху. Туловище... Что сказать о нем? Проще обойтись общим замечанием. Существо состояло как бы из одной огромной головы. Бывают же люди, состоящие как бы из одного носа. Чудовищная голова, покрытая нежнейшей кожей. Чувствительная голова, покрытая нежнейшей кожей. Чувствительная к малейшему прикосновению, как... — найдено слово! — как щупальце тошки! Это слепое существо встало и напряглось, будто высматривая жертву. Кто же обречен? Розальба тотчас поняла, что существо нацелилось на нее. Нет ничего проще, чем понять намерения ближнего (разве не является это существо нашим ближним?), когда они не выражены в словах. Если кто-то кричит: «Убью!» — то это не обязательно прямая угроза. Здесь подразумевается нечто иное. Но если он (некто) намерен совершить убийство, но скрывает это, то обреченный в ту же секунду догадывается о тяжести своего положения.
Распрямившись во весь свой рост, туго и напряженно покачиваясь, существо наступало уверенно и неотвратимо. В подслеповатых глазах отсутствовало какое-либо сочувствие к жертве. Нечеловеческий взгляд, и некуда от него укрыться. Эти невидящие глаза служили одной цели, были подчинены одной несгибаемой и тайной воле. Зверь продвигался к жертве не спеша, уверенно, хотя и было ясно, что он слеп. Любая попытка убежать была бы напрасной, все равно что прятаться от льва, который, как известно, близорук, почти слеп. Он не видит, но чует нюхом свою жертву. Значит, надо покориться? Только бы пытка не продлилась слишком долго. Стоять и ждать. Пусть делает, что хочет, раз уж ты в его власти! И все-таки есть еще время, чтобы взглянуть в эти жестокие глаза. Сочувствия в них не найти, но Розальба уже могла смотреть ему в глаза без волнения. Ужас миновал. Вот он — зверь, во всем своем могуществе, нигде ему нет преград. Захочет — притаится под одеялом. Захочет — залезет под мышку, впихнется между ее... Между ее ног, там — горячо. Бедный зверь! Ему приходится ютиться в холодных дырах, где вечная сырость и грязь сточных вод. Меж ног... больно? Нет, не больно. Щекотно? Нет, скорее, горит огонь, раздражает невыносимое напряжение — звон одного нерва отзывается гулом всего тела. Скорее. Надо чем-то наполнить неизбывность тоски, пока он не овладел тобой. Занять мысли. Надо о чем-то думать. Слово — любовь. Нет, не годится. Бесполезно, как прежде. Попробовать другое — «Собака страдает, когда ее хозяин ест, а ей ничего не дает». Так однажды сказал отец. Это верно. Все дают собакам поесть, когда сами садятся за стол. Наконец что-то, в чем можно быть уверенной. Понять, отчего у собак грустные глаза, когда они видят, как едят люди, а им ничего не дают, можно только в том случае, если смысл этой грусти был выражен в словах раз и навсегда. Другие случаи жизни, которые суждено открыть только нам, хотя и могут оказаться намного интереснее, чем случай с собакой, не сулят никакой уверенности, даже если они и правильно сформулированы. Быть может, именно по этой причине они доставляют нам несравненно больше удовольствия[19]. Да, но к чему все это? А к тому, что любовь... Ее ведь не выразишь словами.