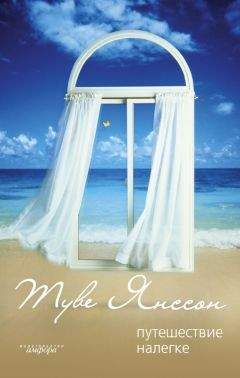Томмазо Ландольфи - Жена Гоголя и другие истории
У женщины все обстоит совершенно иначе. Только из полости женского сердца может упасть капля крови с идеальной, истинной вертикальностью. Каждая крупная и тяжелая капля темной крови, глухо падающая на кафельный пол, обозначает собой вектор движения от центра тяжести этой женщины к ядру планеты, прочерчивая в воздухе идеально прямую линию, И когда, падая, капли попали друг в друга и образовали спокойное мерцающее озерцо тягучей жидкости, стекающей к центру и оттого более светлой по краям, только тогда поняла Розальба, что причина, средоточие и опора этого события — она сама, что это она, Розальба, обитательница и хозяйка этих теплых вод.
Она невозмутимо глядела на это озерцо, но какая-то неотвязная мысль преследовала ее, билась в висок сверчком, ударяясь в средостение души. Так вот она какая, любовь, повторяла про себя девочка. Она полагала, что уже знает тайну любви. Но будем к ней снисходительны. Чтобы увидеть, достаточно поверить, что видишь. Ведь на самом деле видимый мир не существует. Здесь пишущий эти строки должен принести извинения читателю за то, что, стремясь к достоверности, он, быть может, слишком поверхностно изобразил естество Розальбы.
4
Ушла к другим бессонница-сиделка.
АхматоваВесна отцвела в одну короткую ночь. Наступило лето — пора сильных желаний в сопровождении бессонницы-сиделки. В описанную ночь Капитан тоже не сомкнул глаз: невнятное беспокойство угнетало его, тело ныло, словно от сильного ожога. Если бы полусон вылился в какую-то определенную мысль или образ, то он, несомненно, увидел бы свою воспитанницу Розальбу, которая, выйдя из светозарного лилового тумана, будто обнаженная купальщица из глубины морской пучины, заискрилась бы радугой в дремотных ресницах. Взмах руки — и морское дно сначала медленно, затем все скорей уплывает из-под ноги. Вот на поверхности показалась купальщица, устремляясь в наши объятия. Капитан вздрогнул. Он уже бодрствовал.
Он не сомневался, что губы, увиденные им в зыбком лунном свете, губы юноши и девушки, готовые соприкоснуться, повинуясь чудодейственной силе, рано или поздно сольются в поцелуе, упоительном, как райская песнь, пьянящем, как земная жизнь. Однако ему было невдомек, что майор-гренадер уже тронул, правда, безответным влажным поцелуем девственные губы племянницы. Он не догадывался, как эта влага взыграет и вспенится на губах девочки. Ему еще не приходило в голову, что в один прекрасный день Розальба откажется от утренней ванны в его присутствии. А если и не откажется, то станет заливаться краской и сгорать от стыда. Быть может, ей придется уступить его приказу, но тогда не останется и следа от той легкой непринужденной игры, к которой он ее приохотил, и он будет вынужден повести себя гораздо решительней. Разумеется, он не раз задумывался над этим, но до сих пор ему удавалось, ссылаясь на неопределенность будущего, избавляться от подобных пугающих мыслей. Теперь же решительная минута — неизвестно отчего представлялось ему — странным образом наступила, и он хотел встретить ее во всеоружии.
Тяжесть, ожог... Наконец он отчетливо понял, чего хочет. Пить. Капитан встал с постели с огромными предосторожностями: в соседней комнате спал его малолетний сын, нервный и хрупкий мальчик. Разбудить его в эту минуту было бы непростительной оплошностью. Не ведая как, он очутился перед зеркалом и привычно высунул язык, обложенный белым налетом. Краем глаза увидел раскрытые ножницы, торчащие лезвием вверх из глиняной вазочки. Раскрытые ножницы напоминали лапы огромного паука, мертвой хваткой вцепившегося в жертву остальными четырьмя лапами. Капитан уже привык, что многие предметы напоминают своими очертаниями пауков, и не вздрогнул от отвращения. В вороте шелковой пижамы серебрились волосы. Густые вьющиеся волосы на груди и на висках уже поседели. Тени избороздили лоб — морщины. Сетка морщин в уголках глаз — «гусиные лапки», говорят женщины.
— Еще немного — и стукнет шесть десятков, старина!
И неожиданно естественно, как в юности (он и не подозревал, что придется когда-нибудь встать перед зеркалом нагишом), начал раздеваться. По груди вьется серебряная волна волос, соски, отягощенные жирком, игривая парикмахерская дорожка сбегает во впадину пупка. Он стянул брюки; дорожка продолжала спуск вниз к лобку, пересекая, как ни в чем не бывало, резкий подъем и спуск живота. Трасса для скалолаза, мысленно пошутил он, как в юности. «Ну что, альпинист, — обратился Капитан к темной фигуре, качнувшейся в начале подъема, — или мы не чемпионы Пиренеев?» Еще ниже два морщинистых мешка, объем их в последнее время необратимо уменьшился. И здесь волосы с проседью — вот что самое скверное!
— Да уж, как ни крути — один... — ругнулся он, кажется, вслух и оделся.
«Купание в ванной» — это словосочетание его преследовало. Как удержать ее в блаженном неведении? — спрашивал он себя и отвечал, что это невозможно. Формы ее тела уже округляются. От судьбы не уйдешь — выпорхнет, как бабочка, в белый свет![20] Rien à faire[21]. Зачем же он встал? Ах, да, попить. Капитан бесшумно открыл дверь. Теперь ему нужно было пройти через комнату мальчика. Тот спал, и вид у него был какой-то болезненный, точно его лихорадило: рот приоткрыт, на лбу выступили росинки пота. Вот он, подумал Капитан, проходя мимо его постели и стараясь ее не задеть; мысли его мгновенно изменили первоначальное направление: слава Богу, что глаза его закрыты. Хорош отец, нечего сказать, так до сих пор и не знает, какого цвета у него глаза! Но и с этим ничего не поделаешь: сколько раз уж он пытался разобраться, какого цвета у мальчика глаза, но не пришел ни к какому определенному выводу. Однако, если вдуматься, Капитан всем своим существом противился тому, чтобы сравнивать цвет глаз сына с окружающими предметами. Панический ужас охватывал его всякий раз, когда обстоятельства побуждали его к этому. И разум, и память отказывались действовать, как обычно. Он словно страшился, что в результате может получиться нечто ужасное. В таком именно положении и оказался он сейчас, но, к счастью, уже успел добраться до кухонной двери и избавиться от этой мысли. Острая жажда поддерживала его в равновесии. Она была сродни тонкому еловому бревну, перекинутому через пропасть между двумя горными кручами. Внизу же пронзительно завывает ураганный ветер, бушует ядовитый серный поток, наполняющий миазмами все вокруг... Вода была на исходе. Две банки зеленоватого стекла с узким горлышком сохранились, несмотря на все передряги. Обычно в таких банках консервируют помидоры. Стоят в медной раковине, чтобы вода была попрохладнее. Надо взять стакан. Нет, лучше прямо из банки. Но жажда уже угасла. Следовательно, равновесие утрачено. Капитан это понимает. Чудится ему, что он снова попал в ураганный поток. Чтобы выплыть, заставляет себя думать о жажде. Но спасение является неожиданно в виде укусившей его блохи. Мерзкие, отвратительные блохи — ни минуты нельзя постоять босиком, тотчас же набрасываются на тебя, выматывая всю душу. В этом доме полно блох. Собака, что ли, принесла? Как бы там ни было, можно сказать, повезло: пожалуй, займемся блохами. Гнусная тварь сверлом ввинчивается в кожу. До чего противное занятие — вычесывать блоху, давить без сожаления! Иначе, стоит только разжать пальцы, как она — прыг и была такова. Теперь мыть руки. Какая гадость! Но, увы, это необходимо!
Капитан принялся с яростью ловить блоху. Вот она — попалась. На лодыжке (он был в одних шлепанцах и рубахе). Блоха уже не подавала признаков жизни, а он все давил ее, перекатывая между большим и указательным пальцами. Теперь можно и выбросить — прямо в слив, в потрескавшуюся черную дыру в каменном полу. Блоха упала, но в это время что-то легкое и серое, сквозистое и неосязаемое, как тень, нитевидное и подвижное, будто подвешенное в воздухе, попало в поле зрения Капитана. Правда, он не мог с точностью поручиться, что видел это «что-то». Просто будто мелькнула какая-то тень или отблеск в самом дальнем уголке глаза. Наваждение или реальность? Поворачиваешь голову, чтоб рассмотреть, а там, как ни странно, ничего нет. Однако чутье никогда не обманывало Капитана: чья-то ледяная рука словно вдруг стиснула его сердце. Тусклый свет лампы не достигал этого угла кухни, обрывался здесь резкой тенью. Желтоватые блики с трудом выхватывали из темноты черное пятно слива. От этого тени казались гуще и неопределеннее. Была середина ночи. Неподвижная, каменная тишина, ничем не нарушаемый покой крепко сжатых суровых губ. И в самой глубине этой тишины, не мал не велик, серый и полупрозрачный, шествовал по кухне паук.
Обычный паук, принадлежащий к заурядному и безымянному семейству, — насекомое с длинными волосяными ногами и пепельно-серым тельцем. Передвигался он быстро, как и подобает данным насекомым, но без особой спешки и без скрипа переставляя свои невероятно длинные ноги, которые на мгновение, казалось, прилипали к полу, будто смазанные клейкой жидкостью, затем паук отрывал их от кафеля с видимым усилием; любое другое существо в этом случае наверняка утратило бы равновесие, но пауки обладают одним преимуществом — наличием огромного количества ног, помогающих восстанавливать равновесие. Мелкозернистая поверхность его тела при этом морщинилась, словно по ней пробегали судороги, и беспорядочно колебалась в разные стороны. Иной раз, когда судорога отпускала, могло показаться, что паук взмывает в воздух и в свободном полете совершает причудливые танцевальные па, повинуясь некоему жутковатому ритму. Он двигался, однако, в заданном направлении. В бесшумной его поступи была тайна движения судьбы. В бессонные ночи нам дано различать это движение с особой отчетливостью. Капитан замер, как был, в шлепанцах на босу ногу, паук пробегал по стене на расстоянии двух вершков от его лица, самой чувствительной части тела. Но Капитан не стал, как в прошлый раз, бездумно подпрыгивать. Он даже не отодвинулся в сторону. Быть может, оттого, что не сумел вовремя предугадать опасность, которая столь неожиданно оказалась в непосредственной близости от него, Капитан не шелохнулся. Потрясенный до глубины души, стоял он перед пауком, почтительно склонив голову. Блоха, да и весь окружающий мир, за исключением раковины и паука, выпали из поля зрения. В иных обстоятельствах обостренная чувствительность в кончиках пальцев напомнила бы ему, что он еще не совершил обряд очищения после того, как расправился с блохой. Но эта потребность, начавшая было превращаться в конкретное движение, тотчас исчезла, не успев обрести форму жеста.