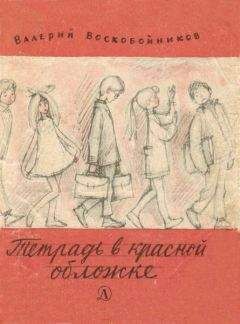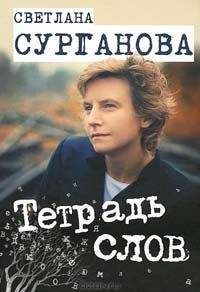Запретная тетрадь - Сеспедес Альба де
Едва войдя в дом, я направилась прямо в комнату Миреллы, все еще держа в руках ключи. Я испытывала иррациональный страх, что она видела, как я выхожу из машины. Я готова была ответить ей, что порядочная женщина поступает так, как вела себя я, соглашается на беседу, но только чтобы сказать: «Хватит», сказать: «Это невозможно», пусть ей больно, пусть она вполне имеет право вести себя иначе, пусть всю жизнь отдала другим. «Тебе», – сказала бы я. И понимание этого разъедало меня изнутри, превращаясь в язвительную злобу. «Ты сегодня дома?» – спросила я. Согнувшись над книгами, она занималась, запустив руку в волосы, по своей привычке; она была совершенно лохматая. «Нет», – ответила она. Я заметила, что она уже не первый вечер сидит дома. «Может, ты поняла, – намекнула я, чтобы подтолкнуть ее к разговору, – и сама пришла к выводу, что некоторые вещи попросту невозможны». «Нет, – решительно ответила она. – Не в этом дело». И пояснила: «Сандро в Нью-Йорке». «Слава Богу», – воскликнула я. И тут же велела ей не произносить это имя в моем присутствии, словно это имя жениха или мужа. Она твердо перебила меня с напором в голосе: «Мама, прошу тебя, не говори о нем ничего плохого сегодня вечером, прошу тебя. Он завтра вернется. Он уже в полете. Сейчас он над океаном». Потом призналась вполголоса: «Мне страшно».
Мы замолчали. Я увидела, что у нее под рукой пепельница, набитая сигаретными окурками, а прямо перед ней, на сложенном ремешке, ее старые школьные часы. Я подошла к окну; посмотрела на улицу сквозь стекло. «Это невозможно», повторяла я сама себе, думая о Гвидо. Я бы хоть до утра сидела так у окна, наблюдая за небом для нее, попроси она меня. Стояла спокойная звездная ночь, из тех, когда видно, как пролетают самолеты, весело подмигивая фарами, словно лукавыми глазами. «Не волнуйся, – прошептала я, – погода ясная».
6 апреля
Мне уже некоторое время часто случается возвращаться мыслями к прошлому. Я перечитываю старые бумаги, стихи, которые писала в пансионе, а тетрадь лежит в стороне: может, оттого что я не отваживаюсь столкнуться лицом к лицу с настоящим. По вечерам, пока остальные спят, я перечитываю письма, которыми мы с Микеле обменивались, обручившись, или те, что он писал мне из Африки. Я их все перечла, и все же мне почему-то кажется, будто их не Микеле писал, а человек, с которым у меня совсем иной уровень откровенности, чем с ним. Гвидо, к примеру. Я даже с ним разговариваю, читая эти письма, и с горечью подвожу его к выводу о хрупкости любви, словно я не с Микеле, а с ним делила те иллюзии, которые не воплотились в жизнь.
Мало-помалу все привыкли к тому, что по вечерам я не ложусь допоздна. Возможно, они считают, что с возрастом всякий приобретает набор мелких причуд. Это я не отваживаюсь преднамеренно воспользоваться своей свободой, говорю, что не могу лечь, потому что мне нужно работать или гладить, и часто я действительно это делаю, почти наслаждаясь тем, что жертвую дневником. Иной раз я подолгу сижу без дела, устроившись на неудобном стуле, воображая те поездки, которые мне хотелось бы совершить, слова, которые хотелось бы сказать. Мне не часто выдается возможность с кем-то побеседовать; я хотела бы поговорить с Микеле, сознаться ему во всем и объяснить, что хоть я вечером и согласилась оказаться с Гвидо в привычном кафе, то потому лишь, что мне нужно было с кем-то поговорить; обсудить те конфликты, те чувства, которые он будоражит во мне, но единственный, кто интересовался бы моей личной жизнью, – это он сам, тот, кому следовало бы противиться. Микеле все время нервничает и по вечерам часто ходит к Кларе. Он все еще ждет окончательного ответа; Риккардо тоже словно растерял свое счастливое расположение духа, он рассеян, вспыхивает из-за любого пустяка, а Мирелла, с тех пор как тот мужчина вернулся, больше ни мгновения дома не проводит. В первые годы моего брака мне казалось, что я не в силах дать каждому из них все, о чем они меня просили; может, я была не столь богата на чувства или менее щедра. Сейчас, когда дом пустой и тихий, я думаю о моей матери, часами сидящей за вышивкой погрузившись в воспоминания о прошлом. Я всегда думала, что это особенность стариков, не способных больше предаваться какому-либо занятию с той же энергией, что и размышлениям, но возможно, это не так. Тогда я встряхиваюсь, иду спать и, чтобы согреться, прижимаюсь к спящему Микеле.
Почти каждое письмо, которое он писал мне из Африки, отдает упреком. Я об этом не помнила и теперь удивилась. Может, из-за того, что дом и семья остались так далеко, он сетовал, что я не уделяю ему достаточно внимания: винил меня в том, что я не проявляю своих чувств к нему. Я связывала его удрученное состояние с тем, как чувствуют себя на войне люди, маскирующие свой страх смерти словами о том, как боятся, что сойдут на нет их самые нежные чувства. Недаром я в своих письмах все время шутливо попрекала его этим; напоминала, как мучает меня тревога за него, какие материальные сложности испытываю, какую тяжелую жизнь вынуждена вести. Но в конце всегда успокаивала его, рассказывая о своей стойкости, о нашем крепком здоровье, и пространно расписывала ему все, что говорили и делали дети, чтобы повеселить, в то время как он писал исключительно о себе. Теперь я заметила, что он часто говорил о нависшей над нами опасности, от которой он был полон решимости нас спасти. Я отвечала, что его возвращения достаточно, чтобы избавить нас от какой бы то ни было опасности, дети снова были бы в безопасности, и о другом волноваться не стоило. В одном из писем он говорил: «Я хочу отыскать тебя вновь, моя Валерия. Иногда у меня уже не получается увидеть тебя: ты спряталась среди детей». Читая эти слова вчера вечером, я почувствовала озноб, мне пришлось встать, взять маленькую шаль и накинуть ее на плечи. Я с жадностью вернулась к чтению. Микеле часто строил планы на свое возвращение: предлагал мне небольшую поездку, говорил даже, не устроить ли Риккардо в пансион, чтобы я могла посвятить мужу больше времени. Говорил, что мы будем вместе ходить на концерты, хотел приобрести абонемент, и что каждое воскресенье следующим летом мы будем ездить на море, плавать, нам будет весело. Все то же, что мы собирались делать, когда едва обручились, и не сумели воплотить в жизнь, потому что это было дорого, а главное – я не могла расслабиться, оставляя детей. Последние письма были столь пылки, что я краснела при мысли, что их писал Микеле.
Я пыталась вспомнить, каким было его возвращение. Я поехала на вокзал со своими родителями, его отцом и детьми. Он очень посмуглел в лице, похудел, был не похож на себя. Мы вновь зажили как раньше, жизнь становилась все сложнее. У меня было много домашних дел, а Микеле всегда щадил меня, никогда ни на что не жаловался. Поскольку он вернулся, я помню, что с чувством облегчения перевязала лентой его письма и положила в чемодан вместе с другими. Сейчас я испытываю странное ощущение, видя эту стопку: словно наши первые письма жениха и невесты писали два других человека, не те, кем мы были, когда он был в Африке, и уж точно не те, кто мы сейчас. Мы уже не пишем друг другу письма. Мы привыкли стыдиться наших любовных чувств, словно грехов; так что они мало-помалу и в самом деле стали грехами. И вообще, Микеле считает меня холодной, не особенно ласковой и сохранил привычку шутливо жалеть об этом при детях или друзьях. Вначале это причиняло мне дискомфорт, но в конце концов я привыкла отшучиваться. Был, впрочем, один эпизод, который мне, быть может, не стоило забывать. Это случилось много лет назад. Я тогда обычно подолгу задерживалась в детской по вечерам, чтобы Мирелла уснула: еще совсем маленькая, но уже своенравная, она взяла в привычку колотить по латунным прутьям своей кровати, если я не соглашалась посидеть с ней рядом. Микеле все время оставался один в гостиной, читал; и однажды вечером, когда я наконец вышла к нему, сделал мне резкое замечание. Я только вышла из комнаты, где заранее закрыла ставни, чтобы темнота приглашала детей ко сну; его упрек лег поверх моей сонной усталости и причинил мне боль. У меня, видимо, были очень истрепанные нервы: помню, что ответила я жестко, обвинив его в том, что не ценит мою любовь к нему, которую я демонстрировала, ухаживая за его детьми. Он ответил, что это не любовь, что я заблуждаюсь, сказал, что женился на мне, чтобы я была его спутницей, а не нянькой; эти слова обидели меня, и я разрыдалась. Увидев, что я плачу, Микеле нежно подошел ко мне, сжал в своих объятиях, успокоил. Он говорил: «Прости меня», и проводил рукой по лбу, словно желая снова стать самим собой. Это было до его отъезда в Африку, но я всегда четко помнила тот вечер, хотя вечно загоняла его в глубину своей памяти, как и письма в чемодане.