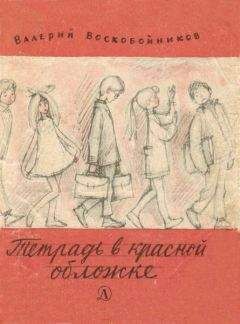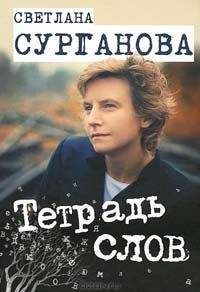Запретная тетрадь - Сеспедес Альба де
Микеле не извинился перед ней за опоздание, как, по правде говоря, ему следовало бы сделать; здороваясь со всеми, он увидел корзину и спросил: «А это?», показывая на нее, как на незнакомого ему человека. Потом, насупившись, повернулся к Мирелле. Тогда, в тишине, я сказала: «Нет, это мне… Директор, как обычно». Он возразил, что у директора, должно быть, много денег, раз он их бросает на ветер. «На ветер? – отозвалась я, изображая шутливую обиду. – Ты невежлив, Микеле!» «Цветы жутко дорогие в эти праздничные дни, – пояснил он. – Кстати: представляешь, мне пришлось саморучно отнести цветы Кларе домой, потому что у флориста не было ни единого свободного посыльного. Я на секунду ее застал, она передает тебе сердечные поздравления и просит позвонить ей». «Невозможно купить цветы, такие дни, – твердил он, выставляя напоказ свое неудовольствие, – розы: триста-четыреста лир за штуку». «Эти… – добавил он, указывая на корзину, – …те, что по четыреста. Сколько их?» Он пересчитал и затем сказал: «Двадцать четыре… четыре на четыре – шестнадцать: девять тысяч шестьсот лир». Все уважительно обернулись на корзину, кроме моей матери, продолжавшей пить свою чашку бульона. Риккардо заметил, смеясь, что лучше бы господин директор отправил их нам наличными. Я тоже шутила, но что-то сжимало мне живот, невыносимая тревога. Я весело накладывала всем щедрые порции, а сама почти ничего не брала. И извинялась, говоря, что так всегда бывает: тому, кто готовил, есть не хочется.
29 марта
Это были желтые розы. Мне хотелось бы вставить одну из них в петлицу жакета по возвращении в контору во вторник, однако, невзирая на мой уход, через несколько часов они завяли. Когда я подошла поблагодарить его, сказала, что сохранила лепесток, положив между страницами тетради, не сказав, впрочем, о какой тетради речь. Он каждый год отправлял мне цветы или сладости, сопровождая ими свои поздравления, но сейчас все как будто в первый раз. А ведь ничего между нами на вид не изменилось; я сомневаюсь даже, что он когда-либо произносил те слова, которые я слышала от него в прошлый четверг. Я смотрю, как он диктует или говорит по телефону, и снова вижу то его единственное выражение лица, которое узнала за много лет: любезное, но холодное и все время так или иначе непроницаемое. В рабочие дни мне даже совестно писать о нем. А может, я хотела бы обойтись без дневника, чтобы избежать необходимости судить саму себя. Мне уже какое-то время кажется, что все во мне – грех. Я твержу себе, что не делаю ничего плохого, и не могу себя убедить. По утрам, едва войдя в контору, он звонит мне и сообщает: «Я пришел»; потом я слышу его голос за разделяющей нас стеной и впервые в своей жизни чувствую себя защищенной. Сегодня утром он позвонил мне по телефону, и когда, входя в его кабинет, я спросила, чего ему угодно, он ответил: «Видеть вас». Мы рассмеялись. Вот это и есть то новое, что появилось в наших отношениях: когда мы рядом, мы очень часто смеемся, я забываю обо всем остальном, и мне весело. Между нами постоянно протекает диалог, он идет через работу, и если кто-то заходит в наш кабинет, я оборачиваюсь в страхе, что кто-то другой может уловить эту нашу тайную манеру разговора. Такая вероятность пугает и влечет меня. На работе, с того самого момента, как меня взяли в штат, я всегда пользовалась привилегированным положением – не только в силу моих должностных обязанностей, но и потому, что остальные девушки моложе и не замужем; я же, исполняя свои обязанности, могу также пользоваться своим опытом матери, у которой есть семья. Я хотела бы, чтобы сегодня они судили обо мне иначе и, может, чуть побаивались меня, как женщину, пылко любимую человеком, которому можно навязывать свои желания, пусть даже неоднозначные.
30 марта
У меня всего несколько минут на дневник, нужно быть очень осторожной, потому что Риккардо утром хотел открыть ящик, где я сейчас прячу тетрадь, взять какие-то свои детские фотографии и подарить их Марине. Ящик был заперт, и даже Микеле это удивило. Мне пришлось открыть его, хотя поначалу я сказала было, что уже не помню, где ключ, – иначе Риккардо взломал бы его. Он сразу спросил: «Что это за тетрадь?» – и, чтобы отвлечь его внимание, мне пришлось сделать вид, что меня рассердила идея отдать фотографии Марине.
Сегодня приходила Сабина. Мирелла уже ушла: так что Сабина оставила ей какие-то учебные материалы и собиралась было уйти, но я остановила ее в дверях. Я сказала ей: «Нам надо немного поговорить, Сабина. Я знаю, что ты знаешь все о Мирелле и об этом адвокате, об этом Кантони». Сабина – высокая девушка с пышными формами, брюнетка. Она очень умна, но немногословна. Ответила, что ничего не знает. «Я догадывалась, что ты так ответишь, – откликнулась я, – это естественно. Но ты знаешь все, так что я все равно хочу с тобой поговорить. Я не могу давать Мирелле советы; а ты можешь. Ты должна ее образумить. Скажи ей, что люди уже судачат, вчера мне позвонила подруга спросить, правда ли, что Мирелла обручена. Ты любишь ее, ты должна заставить ее задуматься». Я хотела добавить: «Скажи ей, чтобы уж по крайней мере ее подвозили до угла улицы, чтобы не поджидали у парадной», – но не могла. Мне нужно выбирать между сопричастностью и непримиримостью. «Скажи ей, что она потом пожалеет», – добавила я. Она ответила: «Хорошо, синьора». И с этими словами подошла к двери; ее спешка подстегивала меня. Я положила руку на ручку двери, чтобы помешать ей улизнуть от меня. «Ты же его знаешь, правда?» – спросила я. Она кивнула. «Какой он? Скажи мне, какой?» – спросила я. Она колебалась, и я продолжила: «Я беспокоюсь о Мирелле, понимаешь? О ее счастье». Сабина смотрела молча, словно изучая меня; и я жалела, что задала ей эти вопросы. В этот момент я как никогда чувствовала, что Мирелла отдаляется от меня; я уже собиралась открыть Сабине дверь, чтобы она ушла, когда она обронила: «Мирелла никогда не сможет быть очень счастлива, синьора, она слишком умна». Я улыбнулась, сказав: «Все умны в двадцать лет, со временем становится все труднее оставаться умным. Но зато, возможно, учишься быть счастливым». Она смотрела на меня с неловким равнодушием, не отвечая. «Ступай, ступай же, – сказала я ей. – Передам Мирелле, что ты заходила, чтобы она позвонила тебе. Хорошо?» Раздосадованная, я закрыла дверь за ее спиной.
1 апреля
Дом уже кажется мне клеткой, тюрьмой. И все же я хотела бы, чтобы можно было запереть на засов выходы, заколотить окна, я хотела бы вынужденно проводить здесь взаперти день за днем. Я могла бы попросить в конторе короткий отгул, может, это пошло бы мне на пользу. Микеле хотел выбраться куда-нибудь, пойти в кинематограф, а я сказала, что предпочитаю остаться ненадолго вдвоем, вместе. Он огорчился, но все равно сразу уступил моему желанию. Спроси он меня, что со мной, почему я так нервничаю, я бы, может, во всем ему призналась, попросила его о помощи. Мы сели рядом с радиоприемником. Я не знаток музыки, как Микеле, но сегодня Вагнер и меня растрогал до невозможности. Пока я слушала его, мне казалось, что я сильна, больше того – я героиня, готовая на самый отчаянный бунт и на самые невероятные жертвы. Вчера я снова пришла в контору после обеда. Напрасно: одиночество, окружавшее нас, было уже не уютным, а коварным. Он целовал мне руки, шепча: «Валерия… Валерия…» – и звук моего имени тревожил меня. Дни уже стали долгими, солнце упиралось в окна. Я сказала: «Не стоит мне больше приходить, Гвидо».
Мы проговорили два часа, и именно тем упорством, с которым я настаивала, что больше не хочу видеть его в следующую субботу, я, сама того не желая, признавалась, как важны для меня эти часы. Но я неумолима; поэтому мы решили встретиться во вторник в кафе, после работы, словно попрощаться накануне путешествия. Он подвез меня домой на машине, и я согласилась, потому что боялась обидеть его. Он ехал медленно и время от времени поворачивался взглянуть на меня, словно желая задержать в глазах изображение, которое вот-вот должно было исчезнуть. Я не противилась. Прежде чем выехать на нашу улицу, он взглядом задал мне вопрос, не зная, ехать ли дальше, остановиться ли. Я подала знак ехать дальше, все равно это будет один-единственный раз. Потом быстро вышла и подавила соблазн проследить взглядом за темной удалявшейся машиной.