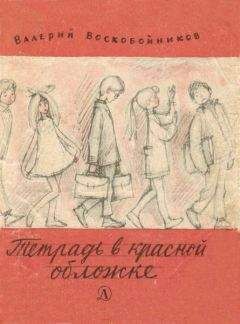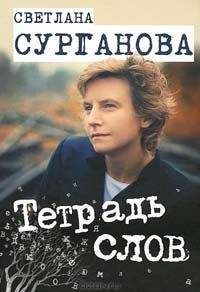Запретная тетрадь - Сеспедес Альба де

Едва я произнесла эти слова, он улыбнулся, взволнованно, растроганно; и я снова испытала то чувство доверия, которое приходит только когда он рядом. Мы продолжили разговор, и все, что он говорил, возвращало мне радость. Пока он смотрел на меня, я была молода, гораздо моложе, чем когда впервые вошла в контору: молода, как никогда не была, потому что у меня было то счастливое осознание, которого мне не хватало в двадцать лет. Мы так и сидели, один по ту сторону стола, другая – по эту: ведь именно так мы разговаривали много лет, и казалось невозможным установить между нами другой уровень доверия, нежели тот, который уже так глубоко укоренился в нас. Он протянул мне свою руку, я дала ему свою, стол объединял нас, а не разделял.
Потом я сказала, что уже поздно, а мне еще нужно в церковь освятить дары для причастия. Он не стал меня удерживать: мы оба чувствовали, что у нас впереди много времени, долгие часы, каждый день. Мы прибрали бумаги, закрыли ящики и погасили свет, словно однокашники.
«В какую церковь вы ходите?» – спросил он на пороге. А сам тем временем смотрел на меня, и я устыдилась старых коричневых туфель, которые ношу каждый день. «Здесь рядом, – сказала я, – в Сан-Карло». Он спросил, может ли проводить меня хоть сколько-нибудь.
Как только мы вышли на лестницу ждать лифт, я начала ощущать неловкость. Не могу определить то, что я чувствовала, внутри себя я была свободна, но снаружи была как будто связана. Это продолжилось и когда мы оказались на улице. Я очень давно не ходила по улице рядом с мужчиной; с Микеле мы уже редко куда-либо выбираемся. Улицы были заполнены людьми, неохотно переходившими от одной церкви к другой. Мне казалось, что их одежда будто разносит по воздуху запах нагроможденных цветов, свечей, запах ладана и мирры в моих воспоминаниях воспитанницы пансиона. Многие женщины были одеты в черное и с охотой болтали друг с другом, вполголоса, как на похоронах. Мы обошли стороной Виа дей Кондотти: я пыталась отыскать способ шагать с ним в ногу, но с очень высоким человеком трудно идти рядом, разговаривать было тяжело. Виа делла Кроче была шумной и оживленной, как деревенский праздник. Мы с трудом пробирались вперед среди толпы: когда проезжала машина, все прижимались к стене, кое-кто возмущался, я смеялась и чувствовала, что мне очень жарко. Мне казалось, что мы вместе, в путешествии, в каком-нибудь южном городе, веселом и нищем. Я смеялась, но моя неловкость и не думала рассеиваться. До сегодняшнего дня из общего у нас только и было, что холодные предметы в конторе, бумаги, печатные машинки, телефоны, словно мы прожили много лет вместе в мире, чуждом всему человеческому. И по сравнению со всем этим, полные овощей тележки, витрины продуктовых магазинов, сверкающие огни, голоса – все казалось мне бесстыдным. Может быть, и он испытывал то же самое ощущение, потому что он внезапно взял меня за руку, не задумываясь о том, что это неосторожно. Он не привык ходить по улицам пешком. Люди смущали его: давая пройти другим, он подавался в сторону сильнее, чем требовалось. Я смотрела на него умиленно, улыбаясь, и вела его по своим улицам-подругам, с которыми давным-давно вместе. «До завтра», – сказал он мне, когда мы наконец дошли до ступенек церкви, словно до острова, на котором спаслись. Он снял шляпу, быстрым взглядом обводя улицу вокруг нас: «Хорошего вечера, Валерия», – прошептал он. Поцеловал мне руку. Я не узнавала его в этих словах, в этом жесте; но была счастлива.
26 марта
Мне кажется, Пасха развеяла ту тревогу, те сомнения, которые часто мучают меня. Утром в Страстную субботу, когда я услышала, как внезапно зазвонили разом все колокола, мне показалось, что во мне тоже наконец-то развязались какие-то узы и я свободна. Я активнее, чем обычно, взялась за домашние дела, чтобы приготовить приятный день Микеле и детям; Риккардо сказал, что никогда прежде так здорово не отмечал Пасху, как в этот раз – может, потому что Марина обедала с нами. Накануне вечером я так припозднилась за подготовкой, что у меня даже не осталось времени что-нибудь записать. Я купила три шоколадных яйца, приняв в расчет, что теперь каждый год нужно будет делать подарки не только детям, но и Марине; потом покрасила яйца в яркие цвета, как мы делали в пансионе, и расставила по всему столу, вокруг пиццы, белые маттиолы, источавшие сахарный аромат и придававшие всему ансамблю добродушно-деревенский вид. Когда священник пришел благословить дом, я даже прочла в его глазах выражение похвалы.
Мы впервые не пошли на утреннюю пасхальную службу все вместе. Риккардо спросил, не расстроюсь ли я, если он отправится на мессу с Мариной. Микеле посоветовался со мной насчет того, не стоит ли послать букет цветов Кларе, ведь она была с нами так любезна в последнее время, и я с воодушевлением согласилась: поэтому он поспешил в центр, заверив, что присоединится к нам с Миреллой в церкви, но в итоге не успел. Мирелла захотела пойти на службу в одиннадцать, чтобы освободиться за полчаса до того, как вернется домой помогать мне с приготовлением обеда. Мы шли к церкви вместе, и я гордилась, что иду с дочерью. У Миреллы красивая походка, она двигается проворно, с ничуть не томным изяществом; в ней нет ни капли расслабленности, свойственной девушкам ее возраста. Ее походка – это уже шаг уверенной в себе женщины. В церкви я наблюдала за ней, коленопреклоненной рядом со мной: осеняя себя крестным знамением, молясь, она все еще делает те движения, которым я научила ее в детстве, но ее мысли уже не мои. На ней была шляпа из небеленой соломы, купленная на ее первые заработки, сумочка, которую подарил ей Кантони, а на шее – дорогой шарф, полагаю, того же происхождения. Пока она молилась о чем-то своем, я молилась за нее, за то, чтобы она всегда оставалась хорошей дочерью. Звучание органа трогало меня. Я задумалась, была ли я хорошей дочерью, а затем – хорошая ли я мать и хорошая ли жена; но, коротко посовещавшись со своей совестью, я пришла к неизбежному выводу, что на все эти вопросы могла бы ответить «да» и «нет» одинаково искренне и, думаю, одинаково обоснованно. Так что я перестала их себе задавать и попросила Бога помочь Мирелле и мне тоже, потому что все мы в этом очень нуждаемся.
Моя мать в праздничные дни старается быть пунктуальной, как особо важная гостья. Я знаю, что при таких оказиях она тратит много времени на туалет: выбор шляпы или перчаток производится с исключительной тщательностью. В молодости она была очень элегантна, и вечно попрекает сегодняшних женщин за спортивный и непринужденный стиль в одежде. Она даже не заходит на кухню; делает вид, что не замечает моих хлопот, словно желая обойти вниманием тот факт, что у дочери нет служанки. Вчера она сидела в столовой с моим отцом и Риккардо, беседовала: время от времени, как бы между прочим, открывала маленькие золотые часы, свисавшие у нее из-под лацкана черного платья-жакета, подчеркивая этим жестом не слишком уважительное опоздание Микеле. Когда прозвонил дверной звонок, она сказала: «Наконец-то», но то был посыльный с большой корзиной роз. Я сразу догадалась, от кого она, даже осознала, что ждала ее все это время и что в этом ожидании с новым воодушевлением готовила обед. Я открыла записку, и прямо не знаю, как никто не заметил, что у меня дрожали руки. Я сказала: «А, это господин директор», – и затем сразу же добавила, что он сделал то же самое на Рождество, а на Пасху в прошлом году прислал мне шоколадное яйцо. Мне показалось, что в комнате повисла тишина, и я страшно нервничала, чуть не уронила на пол корзину, когда Риккардо взял ее у меня из рук, сказав, что Марина очень оценила бы ее. Он распоряжался ей, словно она ему принадлежала, ставя то на один предмет мебели, то на другой, чтобы выбрать наилучшее расположение, затем триумфально установил на серванте. Наконец пришел запыхавшийся Микеле. Моя мать снова посмотрела на часы и немедленно поднялась с дивана, чтобы сесть за стол.