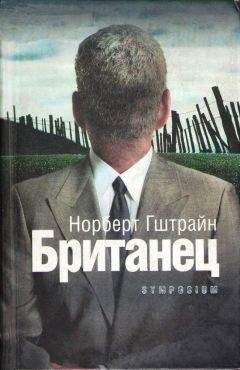Норберт Гштрайн - Британец
Стояли душные дни, солнце жарило с утра до вечера, и вдруг оказалось — на улице мокрядь, мгновение спустя обрушился ливень, и тебе отчаянно захотелось, чтобы разразилась настоящая гроза, волны хлестали берег и швыряли клочья пены на набережную, и шум шторма поглотил бы крики чаек, и они стихли бы в пространстве, где нет никаких границ. На следующий день после допроса в соседний лагерь привезли партию заключенных, и ты вместе со всеми глазел на них, когда колонна проходила вдоль вашей колючей проволоки, эти люди шли молча, не пели, как вы в день прибытия, слышалось только шарканье ног. И промелькнула дикая мысль: мир может опрокинуться, сорваться с орбиты, если в один и тот же миг все войска, находящиеся на континенте, вдруг случайно зашагают в ногу; пожилой человек с пристегнутой, как положено по уставу, маской противогаза, в галифе и гамашах, шагавший впереди с краю, показался тебе как две капли воды похожим на директора твоей школы в Вене. В тот день на всех окнах домов вашего лагеря проставили номера, чтобы проще было выявлять нарушителей приказа о светомаскировке, а после обеда раздали посылки, там оказалась одежда, пригодная разве что для детей, и книги, изданные в Бразилии на португальском языке, в котором никто ни черта не смыслил; а потом все вдруг заговорили — побег, побег, пошли толки об исчезнувшем пятидесятилетнем заключенном, только о нем и судачили, это был банкир из Франкфурта, он якобы еще в ту войну сидел тут в лагере для военнопленных, здесь, на этом острове; сейчас, вспомнив эту историю, ты попытался представить себе, куда беглец мог податься, попытался вообразить, как он двое суток блуждал по округе, ночевал под открытым небом, а в итоге очутился у лагерных ворот и со слезами попросил изумленных караульных пустить его обратно.
И в самый разгар взволнованных толков о побеге оно таки грянуло, давно ожидавшееся известие — нужны добровольцы, желающие покинуть остров, их набралось больше трех десятков, эти люди вызвались сразу, без колебаний, хотя не было сказано, куда повезут; они поверили обещаниям, что в любом случае больше не придется сидеть за колючей проволокой, что они будут свободны и даже смогут вызвать к себе жен, в общем, из двух тысяч человек удалось уговорить ровным счетом тридцать шесть, всего ничего, но тебя это не удивило. Кто-то пустил слух, что из Ливерпуля уже вышел корабль, на котором везут арестантов из Англии, и другие корабли придут в течение ближайших недель, однако все вокруг, похоже, позабыли о своих прежних опасениях — что лагеря на острове могут стать первой целью бомбардировщиков, и, какими бы преувеличенными эти опасения ни казались, страх перед неизвестностью и морским плаванием был куда сильнее потому, что в море полно мин, и потому, что корабль наверняка доставит своих пассажиров в такие края, откуда не скоро выберешься, разговоры о высылке тоже сыграли свою роль, и когда на следующий день утром на поверке опять прозвучало предложение выйти вперед добровольцам, охотников не нашлось. Ты-то и подумать без дрожи не мог о подобном варианте и, как большинство заключенных, здорово испугался, услышав новость — лагерное начальство само будет определять, кого отправить, а кого — нет, офицеры придумают систему отбора или просто станут выбирать как придется, и еще несколько часов потом у тебя в ушах звучало слово «контингент».
Так обстояли дела еще сегодня утром, а теперь ты согласился играть, и на карту поставлено, кому уезжать с острова, ты смотрел на Новенького, а тот тасовал карты, ловко вбивая одну половину колоды в другую, часто поплевывая на пальцы, наконец он положил карты на чемодан, пролистал их, прижав большим пальцем, и вдруг убрал руки; ты думал о том, что утром выкрикнули его фамилию и объявили — настал его черед, завтра он отправляется в море, и сейчас все это показалось тебе фарсом. Поначалу-то прихлопнуло его одного, лишь вечером в список угодили еще несколько человек, и ты догадывался, что таким вот поворотом судьбы Новенький обязан майору, решение не могло быть случайным, уж наверное без майора не обошлось, если утром только Новенький, единственный, получил приказ готовиться к отъезду, но ты не ощущал жалости, внимательно следя за его пальцами, не терзался сомнениями, виноват ли в случившемся ты, твоя оплошность во время допроса, твое тупое упрямство, — не они ли привели к тому, что он так жутко влип, не из-за тебя ли вышло, что ему, или не ему, а тому, кто проиграет, выпала такая участь, и завтра не позднее полудня его посадят на корабль, который поплывет к неизвестному месту назначения. Ты не мог взять в толк, откуда у Новенького деньги, почему их не отобрали, как у всех, но, поскольку ни Бледный, ни Меченый не стали этим интересоваться, ты тоже притворился, что удовлетворен его небрежным замечанием, дескать это его неприкосновенный запас, но невольно снова и снова смотрел на три пачки денег, лежавшие возле него на койке.
Когда он встал, поднял раму окна и вернулся на место, стало еще тише, чем прежде; шаги караульных, крики чаек, кроме них — ни звука, глубочайшая тишина, ветер над морем и солнце, которое вот-вот взойдет, а там уж и побудки недолго ждать, каких-нибудь полтора часа, в коридорах начнется шум, захлопают двери, соседи будут толпиться возле ванной и уборной, и вдруг он сказал:
— Просто не верится, что сейчас война.
И Меченый:
— Сдавай, сдавай, а то и завтра будем тут сидеть!
И Бледный, уже потянувшийся к картам, так что рукава рубашки вздернулись до локтей:
— Сдавай, парень!
И опять он завел все сначала:
— Надеюсь, господа, ставка вам известна. Кто проиграет — уедет. Остальные делят триста фунтов между собой.
И оба, в один голос:
— Хватит болтать, сдавай!
Он сдал — каждому сунул в руки карты, свои положил себе на колени, и ты понял: если еще можно поставить точку, то немедля, сию минуту, потому что если ты посмотришь, какие у тебя карты, то дальше делай что угодно, ври, что стало плохо, заболела голова, и что еще придумаешь, — все равно, они заставят тебя сыграть хотя бы один кон.
Новенький похлопал себя по карманам и, вытащив мятую пачку сигарет, попросил у тебя спички, потом предложил закурить тем двоим, и когда они взяли по сигарете, ты окончательно убедился — все трое будут держаться вместе против тебя, и Бледный сказал:
— Голову даю на отсечение, все из-за трибуналов. Когда решают, кого отправить, смотрят на категорию.
И разумеется — а то как же! — Меченый мигом подхватил, мол, они с Бледным, как только покинули корабль, который выловил их, двух беглецов, в море, были немедленно интернированы, без всяких формальностей, и добавил:
— Конечно, все из-за трибуналов.
И Бледному не пришлось уточнять, что речь о Новеньком:
— Все-таки первую категорию дали.
И покашливание, мычание, и невнятно:
— Да, но ведь, ей-богу, не мне одному, ты же знаешь. Предполагать можно что угодно, а все-таки трибуналы в этом смысле ненадежны.
И тебе вспомнилось, как они утешали его, говорили — не может быть, что заберут и ушлют только его одного, уж наверное, раньше отобрали еще кого-то, скажем, бывших обитателей Коричневого дома или вообще всех, за кем водились кое-какие делишки; и правда ведь, кроме вечно хныкавшего Профессора и горемыки, который сам все испортил своим побегом, отобрали еще несколько человек, кстати, весьма подозрительных типов, назвали их поименно на построении и приказали завтра утром явиться с вещами, в эту группу попали Пивовар и все моряки во главе с капитаном.
Между прочим, излишне было напоминать, что сплошь и рядом решения насчет категории были абсолютно неправильными и зависели от самых несущественных пустяков. В этом смысле ты кое-что испытал на собственной шкуре, но, кроме того, ты знал людей, для которых стал буквально роковым вопрос, намерены ли они принять британское гражданство, любой ответ оказывался неправильным; других спрашивали, как они поступят в случае, если их станут шантажировать, угрожая безопасности родителей, оставшихся в Германии, жизни родных и близких, которым не удалось эмигрировать, — выясняли, не пойдут ли они на предательство своей новой родины, и как эти люди ни выкручивались, всегда получалось, что они — субъекты, представляющие опасность для Англии, либо проходимцы, отрекшиеся от родной страны. В чьей-то судьбе оказалась роковой игра в шахматы по переписке, которую бедолага вел с приятелем, жившим в Париже, — судьи предположили, что переписка велась секретным кодом; у кого-то еще, как выяснилось, была неподходящая приятельница — гулящая дамочка, ему ставилось в вину то, что он жил на ее грязные заработки, кто-то вызвал подозрения, потому что шлялся без дела возле правительственных зданий Уайтхолла и глазел на окна мертвых фасадов, и ты знал, что даже сплетен, дескать, такой-то — красный, было достаточно, чтобы в глазах судей стать обреченным, тверди не тверди хоть сто часов подряд, что вступил в ряды борцов Сопротивления еще в те времена, когда в Лондоне никто не подозревал, какая угроза нависла над миром.