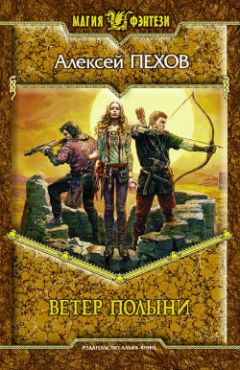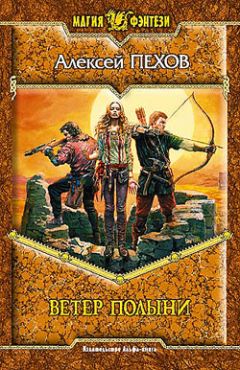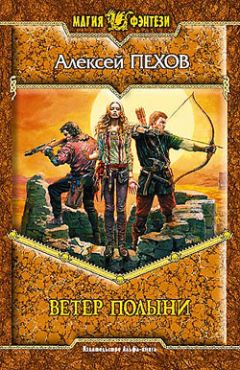Леонид Левонович - Ветер с горечью полыни
Мужчины вдруг расхохотались. Особенно смеялся Мамута. Он был в хорошем настроении: радовался, что удалось проделать неотложную работу — утеплить на зиму пчел. Радовался, что заглянул в гости любимый ученик, который не побоялся бросить столицу и приехал в зону. И что он, Мамута, поступил правильно — никуда не удрал из Хатыничей. Но сказал он про другое, сказал то, что ждала от него жена.
— Ужалела — ето значит, по-нашему, уварилась. Или разварилась. Упарилась. Молодчина, Андрей Матвеевич. Не забыл в городе наше. Родное. А то некоторые съездят в Могилев. Съедят там пару батонов. И уже все по-рюсски.
— Признаюсь вам, Петр Евдокимович. В последнее время заново учил белорусский язык. Начали «Тутэйшыя» объединяться в Минске. Потом неформалы разные. Дискутировать с ними можно было только по-белорусски.
— Так теперь же и Верховный Совет заседает по-белорусски, — вставила свои пять копеек Юзя. — Депутаты стараются друг перед другом. Наперегонки. Приятно слушать, когда знает человек язык. А некоторые путают горох с капустой. Ну, да пускай учатся. В большинстве же — молодые люди там сидят.
— Все зависит от руководства. Как говорит руководитель, так будут говорить и подчиненные, — рассудительно начал Мамута. — Я в школе педсоветы вел по-белорусски. Хоть не филолог, а историк. Так и учителя говорили на родном языке. Теперь я радуюсь, что мы вспомнили свое. Родное. Станем наконец нормальной цивилизованной страной. Если Москва не будет слишком душить.
— Теперь не будет. Раньше партия диктовала. Дескать, рабочий язык партии — русский. Все совещания. Партактивы, съезды — по-русски. Для проформы дадут слово писателю или студентке. И все. И народ отучили от родного языка.
Сахуте хотелось рассказать, что в последние годы он открыл для себя Владимира Короткевича, а нынешний белорусский календарь заставил оценить по-новому, не по-школярски, гениального Максима Богдановича. Но времени не хватало: надо было ехать к сестре, и не столько с ней тянуло увидеться — хотелось поговорить с Бравусовым, может, тот знает что про свата Сыродоева, может, суд уже состоялся.
Андрей горячо поблагодарил хозяев за теплоту и гостеприимность. А хозяева поблагодарили его.
— Ой, спасибо, Андрей Матвеевич, что заглянул к нам. А то я уже собирался пойти в лесничество. А как ты ехал? Через Белынковичи? — поинтересовался Мамута.
— Нет. По новому мосту. Через Саковичи. Такой громадный мост построили. А ездить некому. Зона…
— Военные строили. Говорят, етот мост имеет стратегическое значение, — показал осведомленность Мамута.
Андрей стал прощаться. Юзя предлагала еще чего съесть, выпить на дорожку.
— Нет, все. Спасибо большое. За рулем нельзя.
— Ну, никто у вас руль не отберет. Могли бы оглоблевую чарочку опрокинуть, — выражала свое гостеприимство Юзя.
Когда вышли на улицу, Андрей спросил у Мамуты, можно ли проехать вдоль огородов, где некогда была загуменная дорожка.
— Есть дорога. Было совсем заросла. Да Бравусов проторил. На коне ездит ко мне. И я когда проеду.
Старенький «ИЖ» с коляской затарахтел мотором и медленно покатил по песчаной дороге. Теперь по ней редко кто ездил. Невольно припомнилась весна 1961-го. Он, Андрей Сахута, второй секретарь райкома комсомола, приехал в Хатыничи уполномоченным на весенний сев. На старом «газоне» катил по этой дороге вместе с председателем колхоза Макаром Казакевичем. Вспомнилось, как чуть не забуксовал в Березовом болоте. В тот день хатыньчане начали сеять овес. Костик Воронин на старом гусеничном тракторе выехал в поле. Был в поле и главный агроном колхоза Микола Шандабыла.
Андрей удивился, что помнит все до мелочей, будто то было совсем недавно. Макар Казакевич стоял на одной ноге, как аист, рядом высился раздобревший Микола и молодой уполномоченный Сахута. По холмистому полю, словно серо-голубой жук, полз трактор. Когда он приблизился, Казакевич помахал трактористу, чтобы он подошел. Костик Воронин, сын бывшего полицейского, не глуша мотора, рысцой примчал к ним. Высокий, тонковатый, с перепачканными ладонями, доложил, что все идет хорошо. В тот год он собирался идти в армию.
И вот пролетели тридцать лет. Лучший механизатор, а потом бригадир Кастусь Воронин стал пьянтосом и браконьером, председатель колхоза Макар Казакевич отошел в лучший мир, Микола Шандабыла решает чернобыльские проблемы в масштабах области, готовится к заслуженному отдыху. А бывший секретарь обкома партии стал рядовым лесничим, с персональной шикарной «Волги», возившей его по столичным улицам, пересел на служебный старенький мотоцикл, на котором колесит по зоне, глотая радиоактивную пыль.
Он снова почувствовал гнетущее разочарование жизнью. Смертельную усталость от холостяцкого существования в холодном, сыром здании лесничества. Чего ж он добился в жизни, пульсировала настойчивая и болезненная, будто заноза, мысль. А в ту весну, тридцать лет назад, было столько надежд и чаяний! И надежды, мечты сбывались. Андрей Сахута упорно карабкался вверх по карьерной лестнице: секретарь райкома комсомола, затем первый секретарь, потом обком, ЦК комсомола. Хотели его взять в Москву. Но взяли первого секретаря ЦК. А Сахуту избрали председателем райисполкома в Минске, потом его пересадили в кресло первого секретаря райкома. Друзья пытались перетянуть в ЦК партии заведующим отделом, но это не удалось. Оказался Сахута на должности секретаря обкома по идеологии. Знал, что из резерва на повышение его не исключили. И вот — падение. Но этот карьерный крах не по его вине. Сколько их, партийных руководителей еще более высокого ранга, оказалось без работы! И сколько их уже не выдержало жизненного нажима! Сошло на тот свет в расцвете сил.
А он, Андрей Сахута, тридцать лет отработав на руководящих должностях, начинает восхождение снизу, из глубинки. Из радиационной зоны. Из того самого лесничества, в котором начинал жизненный путь. Хорошо, что имеет профессию. Воспитанникам партийных школ, которые ничегошеньки не умели делать, кроме как трепать языком да проводить линию партии, пришлось куда хуже. Жизнь выплюнула их. Как некую непотребщину или некую обузу — будто гири на ногах. Или чемодан без ручки. Как и большинство партийцев, в том, что произошло, Сахута винил прежде всего Горбачева. Но где же были другие? Куда смотрели? О чем думали? Или совсем разучились думать?
Сахута чуть не проскочил съезд на загуменную дорогу, поскольку она густо поросла муравой и была чуть заметна. Глянул в сторону Березового болота: хотел увидеть старую разлапистую сосну, на которую летом садилось солнце — так казалось Андрейке в детстве. Старая сосна стояла, как и раньше. Древо жизни не поддавалось ни времени, ни чернобыльской вьюге.
Мотоцикл трясся по неровной колдобистой дорожке, по правую руку темнели молчаливые хаты, серели усадьбы, поросшие бурьяном, стояли голые кривые яблони. И нигде не было видно ни единой живой души. Сахуте сделалось аж жутко, будто ехал по мертвой земле. Еще сильней саднила душа, потому что это была родная земля, которую поливали потом его пращуры.
Вот и выгон, на котором он, босоногий мальчишка, пас телят. Нога в кирзовом сапоге будто сама собой нажала на тормоз. Андрей слез с мотоцикла, выпрямился — в последнее время болела спина. Снова взглянул на сосну в Березовом болоте — отсюда она была как на ладони.
Взгляд скользнул по голому серому полю, уперся в темные макушки ольх — там была большая болотина, называвшаяся Кондраши. Сколько он походил туда с отцом! В конце лета выбивали из кустарника траву для рогули, а поздней осенью рубили ольшаник на дрова. А немного ближе раскинулась меньшая болотинка — Юрливец. Некогда там с Васькой и Колей, старшими братьями, жарили ржаные колоски — пражмо по-белорусски. Какими вкусными были поджаренные зеленые зернышки недозрелой ржи! А вот тут, метров за двести от этой заросшей дорожки, после войны построили огромное гумно, стоял навес, где сушили снопы, грохотала молотилка, имелся тут и конный привод. Как любили мальчишки посидеть на его бревнышках-крыльях, когда пасли утром телят.
Гумно, ток и навес служили колхозу лет двадцать, а потом у Кончанского ручья построили механизированный двор, склад, сушилку — эти постройки стояли и сейчас. Но Чернобыль остановил их деятельность. Неужели навсегда?
Впечатлило, что от огромного гумна, тока и навеса не осталось и следа. Вспомнил Андрей, как отец некогда показывал, где стоял чей хутор после Столыпинской реформы. В тот день они пасли коров. Андрей уже окончил семь классов, отец разговаривал с ним как со взрослым, более его образованным человеком. Андрей слушал и удивлялся: от тех хуторов не осталось ничего — ну, там-сям два-три больших камня. Земля забирает все в свое чрево, что оставляет после себя человек, особенно сделанное из дерева. Забирает и грешные останки самого человека, когда он завершает свой жизненный путь.