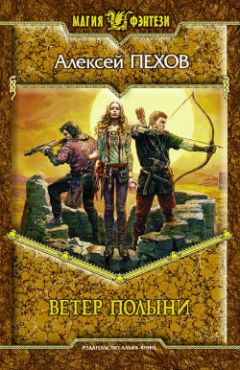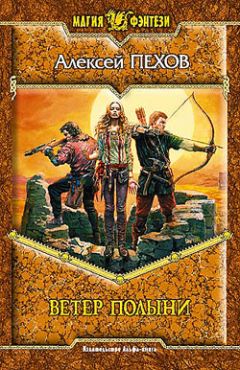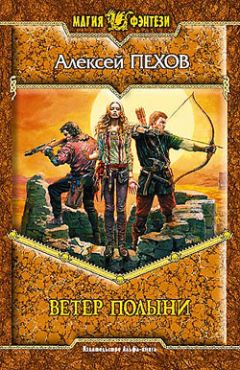Леонид Левонович - Ветер с горечью полыни
Андрей с грустью и скорбью смотрел на молчаливые пустые хаты, покосившиеся стрехи хлевушков, будто прощался с ними, поскольку минует пять-десять лет и они сгниют, врастут в землю, крапива и черная полынь будут царить на бывших селитьбах, где некогда бурлила жизнь, рождались дети, звучали песни, поутру над хатами будто стояли розоватые столбики дыма.
Он взглянул на давно неезженную дорогу выгона, и внезапно его будто ожгло воспоминание. Они гуляли вблизи Андрейкиной хаты: катали мячик из тряпок. Следили, в чью ямочку он попадет, тогда все бросались в разные стороны, а хозяин ямки хватал мячик и метил в того, кто не успел далеко отбежать. И вдруг окрестность сотряс взрыв. Любопытные мальчишки рванули в поле, за деревню, поскольку там громыхнул взрыв. А в поле слышался плач. Кто-то голосил. Вскоре на выгоне показалась подвода. За ней шли женщины. Около воза, держа вожжи, хромал дядя Артем. На повозке сидела женщина и голосила воем. Андрейка заметил на возу разодранное тряпье и красные куски мяса, сквозь щели между досками выглядывали матово-синие кишки, срывались на землю капли крови… Сахута аж закрыл глаза — таким живым было воспоминание.
Но имя и фамилию того парнишки-пахаря, который подорвался на мине, вспомнить не мог, хоть и видел его не раз. Голенастого, веселого, в особых лаптях из мотоциклетных покрышек. Вслед за ним тянулись удивительные следы, будто с подскоком по улице мчал мотоцикл. Андрей перевел взгляд на свою старую обшарпанную лошадку, на съезженные, лысые покрышки со стертыми протекторами. Однако ж вот бегает, приехал из лесничества. Сколько придется колесить на нем? Неужели долго?
Сахута снова оглянулся вокруг — по-прежнему нигде ни души. За Юрливцем, где начинался Уперечный ров, темнели длиннющие стога соломы. Значит, в зоне отселения сеют, собирают урожай. Наверняка эти гектары не учтены, и местный руководитель может похвастаться ростом урожайности.
Он взглянул на часы, потом на мутно-красное солнце, что, словно надутый детский шарик, висело над кладбищем — день короткий, до сосны в Березовом болоте солнце не докатится. Сравнение с красным детским шариком возникло, наверное, потому, что эти шарики-солнца реяли над Октябрьскими демонстрациями, которых так много насмотрелся партийный идеолог Андрей Сахута. А теперь он подумал: часа два еще будет видно, засветло доедет до лесничества. И потому он неторопливо вспоминал, будто перематывал кинопленку своей жизни… И выплыл из памяти еще один день — едва ли не самый первый, который ярко помнился с детства.
Весна. Теплынь. Отец набросал вилами на телегу навоза, постелил в передке тряпку и посадил его, Андрейку. «Держись, сынку, вот за етот колышек», — показал на деревянный штырь передка повозки. Отец шел рядом с возом, что-то мурлыкал под нос, гнедая кобылка сама знала дорогу, отмахивалась длинным хвостом от первых настырных мух, привычно тянула воз. Ехали они вот по этой дороге, перед которой стоял сейчас лесничий Сахута. И было то весенним днем сорок третьего. В сентябре того года деревню освободят от немцев, но враг успеет сжечь ее наполовину — только хаты Кончанской стороны уцелеют. Там придется зимовать обитателям-погорельцам Шамовки. Катера Сахута с детьми перебралась к тете — в маленькой лачуге ютилось больше десяти душ. Потом вернется с фронта Матвей Сахута, построит новую хату. Вон она стоит под высокой шиферной крышей. Некогда мать укоряла отца: зачем поднял такую высокую стреху? Ветер может сорвать. Отец отмахивался, дескать, больше сена можно утоптать на чердак, а еще оттуда далеко видно, аж видна саковичская церковь.
Андрей невольно взглянул туда, за Кончанскую сторону — с чердака хаты и вправду хорошо были видны луковицы-купола саковичского храма, но отсюда их не разглядел. Снова обвел глазами широкое холмистое молчаливое поле, припорошенное невидимыми радионуклидами. Нашел бы он сейчас тот клочок земли, куда с отцом возил навоз? Наверное, нет. То поле было дополнительным — при немцах колхозное поле поделили заново. Бывшие колхозники усердствовали на своих делянках. Вспомнились слова Столыпина: нельзя любить чужое, как свое. А большевики и верный их прислужник Андрей Сахута семьдесят лет с гаком стремились переломить, победить извечный инстинкт человека. Не в этом ли одна из причин краха социализма в его колыбели? Где он достиг довольно высокого развития, глубоко укоренился ценой миллионных жертв. Ценой целых рек пота и крови. А что было бы, если бы Столыпина не застрелили в Киевском театре? Может быть, и Ленин не пришел к власти. Не было бы Октябрьской революции, гражданской войны. Не было бы вражды двух систем. Может, и Гитлер не стал бы фюрером. Возможно, Октябрь поспособствовал зарождению фашизма. Значит, не было бы и войны с немцами. Не сгорели бы Хатыничи. И все четыре Андреевых брата могли бы жить. Могло бы и Чернобыля не быть, потому что от людей осведомленных Андрей слышал, что реактор взорвался не сам по себе. Об этом писал в «Правде» академик Легасов — его статья есть в досье, которое собирает бывший секретарь обкома. И еще подумалось: может, если б не горлопан Ельцин, гэкачеписты победили бы, в Ново-Огареве заключили бы новый Союзный договор. И он, Сахута, сидел бы в своем кресле. Почему же все произошло так, как произошло? Может, некий высший разум управляет жизнью на Земле? Недаром люди верят в Бога.
Будто вкопанный стоял Андрей возле выгона, по которому носился босоногим мальчишкой. Теперь присматривался к почерневшей некошеной траве, иссохшим стеблям тысячелистника, цепких кустов черной полыни. Ему показалось, что никогда раньше не докапывался так близко до разгадки тайн новейшей истории человечества. В обкомовском кабинете он много читал современных философов и социологов. Некоторых по долгу службы — чтобы знать, с кем бороться. А некоторых и по своему любопытству. Это была своего рода цепная реакция: одна книга тянула другую. Один прочитанный автор вел за руку другого. Удивил Александр Зиновьев, прежний диссидент. Когда первый секретарь райкома Сахута прочитал «Зияющие высоты», то очень злился на автора за его язвительность, наблюдательность. Философ-диссидент подрывал изнутри идеологические опоры социализма, насмехался над жизнью «заведующего города Ибанска и его жителей ибанцев». Может, как никто другой, он способствовал краху социализма. А теперь, когда увидел, что социалистический Ибанск падает, стал его подпирать своим плечом, кричать на весь мир, что социализм не исчерпал своего ресурса, что «подлость горбачевской перестройки» в том, что бывшие апологеты коммунизма сделались его рьяными оппонентами и критиками. Но его уже никто не слушал. Запад выплюнул, а Восток не хотел принимать. Принимал за оборотня и веры не давал.
Сахута почувствовал, как усилился ветер, продувает насквозь. Дул ветер с Бабьей горы — значит, чернобыльский, значит, принесет холод, может, и морозец выскочит. Он завел мотоцикл и через несколько минут был у родительской хаты. Тормознул перед воротами, заметил возле калитки велосипед, похожий на тот, на котором приезжал в лесничество Иван Сыродоев. На ловца и зверь бежит, подумал Андрей, надеясь на встречу с бывшим финагентом.
Из хаты вышла Марина, обрадовалась брату, обняла. Была она в старой, но не замызганной фуфайке, на голове серый теплый платок. Андрей с радостью отметил, что Маринины глаза не смотрят на мир с прежней невысказанной тоской старой девы и морщинки-лапки под глазами разгладились, — значит, хоть на склоне жизни не обминуло старшую сестру женское счастье.
— От, хорошо, что приехал. А то я все думаю, как ты там. Один, как волк. Пошли в дом.
За столом сидели уже в добром подпитии Бравусов и его сват Иван Сыродоев. Они тоже выразили шумную радость, увидев Андрея. Хозяйка принесла тарелку и рюмку, Бравусов налил ее до самых бережков, как любили говорить в Хатыничах. Андрей пригубил рюмку и отодвинул в сторону. Все принялись уговаривать, чтобы выпил до дна.
— Нет, братцы, спасибо. Я за рулем. Нужно засветло доехать.
Узнав, что он ехал через новый мост в Саковичах, Бравусов уверенно заметил:
— Никаких гаишников тут нет. Пост милицейский только за Белой Горой. А в зоне — гуляй, Вася. Хвактически, едь куда хочешь. И водки пей, сколько влезет. Надо ж выводить шлаки радиоактивные… Водка, хвактически, помогает. Расщепляет ети проклятые нуклиды. Поэтому и живем в зоне. Хвактически, пьем, гуляем. И никуда не убегаем.
Андрею не хотелось слушать пьяную болтовню, однако и спросить сразу про ту неудачную охоту не получалось.
Сыродоев начал разговор сам.
— Влип я, Матвеевич, на старости лет. Влип в неприятную историю. Да, кажется, выкрутился.
Вот что уяснил Сахута из его путаного рассказа.
Лося они завалили под Белынковичами, возле деревни Белый Камень. Первым выстрелил Сыродоев, сохатый бежал дальше, хоть и начал хромать. А потом лупанул дуплетом Костя Воронин, и громадный лось грохнулся на землю как подкошенный. Привез охотников в лес Семен-магазинщик. В последнее время он работает сторожем на конюшне, ему проще было взять лошадь. И Семен имел ружье-одностволку, но не успел из него пальнуть. Они принялись снимать шкуру с трофея, и тут их накрыла инспекция с милицией. Спасая себя, Костик Воронин заявил, что лесничий Сахута разрешил им охоту. «Вот почему звонил прокурор», — понял Андрей.