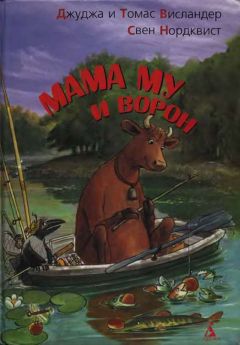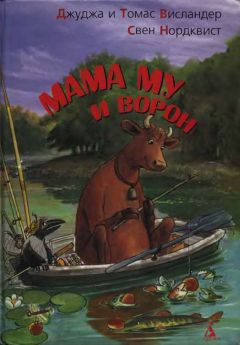Почтовая открытка - Берест Анна
Эфраим смотрит на Эмму. Ее лицо — пейзаж, где знакома каждая деталь. Он берет в ладони ноги жены, ее озябшие ступни — в вагоне для скота холодно. Он растирает их, дует, старается согреть.
Эмма и Эфраим отправлены в газовую камеру сразу после прибытия в Освенцим, в ночь с шестого на седьмое ноября, по возрастым критериям: ей — пятьдесят, ему — пятьдесят два.
— Гордый, как каштан, что выставляет плоды на обозрение прохожих.
Есть список, который господин Бриан, мэр коммуны Лефорж, должен еженедельно направлять в префектуру департамента Эр. Он озаглавлен: «Евреи, проживающие на данный момент в коммуне Лефорж».
В тот день господин мэр старательно, с удовлетворением от проделанной работы, выводит ровным каллиграфическим почерком: «Евреев нет».
— Ну вот, доченька. Так завершаются жизни Эфраима, Эммы, Жака и Ноэми. Мириам при жизни ничего не рассказывала. При мне она никогда не упоминала имен своих родителей, брата и сестры. Все, что я знаю, воссоздано из архивов, из прочитанных книг, а еще из черновых заметок, которые я нашла, разбирая вещи после маминой смерти. Например, вот эта запись — она сделана во время суда над Клаусом Барби [5]. Читай сама.
Какую бы форму ни принимал этот процесс, он пробуждает воспоминания, и все, что записано на кассете моей памяти, начинает мало-помалу прокручиваться, по порядку или без порядка, с пробелами и множеством (неразборчиво). Сказать, что это воспоминания, — нет, это моменты жизни, тап hat es erlebt, это прожито, оно в тебе, оно запечатлелось, возможно, стало отметиной, но я не хочу жить с этими воспоминаниями, потому что из них невозможно извлечь никакого опыта. Любое описание банально. Люди жили себе, никому не мешали, часто не имели возможности что-либо изменить, но как-то реагировали на чудовищные обстоятельства. Вот человек попал в авиакатастрофу — самолет разбился, а он уцелел, — он может сказать, почему ему так повезло? Приди он на несколько минут раньше или позже, ему бы дали другое место. Он не герой, ему повезло, и только.
Я выжила, потому что мне сильно повезло:
1) во время проверки документов в поезде, возвращавшемся в Париж после исхода;
2) после начала комендантского часа на перекрестке улиц Фельятинок и Гей-Люссака;
3) во время ареста в «Мартиниканском роме»;
4) на рынке на улице Муфтар;
5) во время пересечения демаркационной линии в Турню в багажнике автомобиля вместе с Жаном Арпом;
6) с двумя жандармами на плато в Бюу;
7) когда не попалась на явках ордена бенедикти-нок, вступив в конце войны в Сопротивление.
Самые банальные ситуации — первая, четвертая, шестая,
самая глупая — вторая,
невероятное везение — третья,
реальная опасность — пятая,
осознанный риск, осторожность — седьмая.
Независимо от того, были ли эти ситуации банальными, опасными, глупыми, невероятными или осознанными, удача оказывалась на моей стороне. Каждый раз я старалась не отчаиваться и не впадать в панику. Вспоминается все быстро. А вот записать — другое дело. На сегодня хватит и этого.
— Герои этой истории — тени, — подводит итог Леля. Она распахивает окно в сумерки и прикуривает последнюю сигарету в пачке. — Никто уже не скажет, какими они были при жизни. Большую часть семейных тайн Мириам унесла с собой. Но надо продолжить рассказ с того места, где она остановилась. И записать его. Давай сходим в табачную лавку, заодно и подышим.
Я жду Лелю в машине, припаркованной во втором ряду у перекрестка Вашнуар. Там есть табачная лавка, которая не закрывается, как все, в восемь вечера. И вдруг у меня внутри что-то тихо лопается и начинает струйкой стекать по ноге. Из меня льется какая-то тепловатая жидкость, и я не могу ее удержать.
КНИГА II
Воспоминания еврейской девочки, ни разу не бывавшей в синагоге
— Бабушка, ты еврейка?
— Да, я еврейка.
— А дедушка тоже?
— Ну нет, он не еврей.
— Ага. А мама еврейка?
— Значит, что, и я тоже?
— Да, ты тоже.
— Так я и думала.
— А что у тебя вдруг такое лицо, птичка моя?
— Да теперь начнутся заморочки!
— Но почему?
— Да просто в школе не слишком любят евреев.
Каждую среду моя мама на своей маленькой красной машинке приезжала в Париж, чтобы забрать внучку из школы. Это был их день, пусть короткий, но их. Они обедали, потом мама отвозила Клару на дзюдо и возвращалась к себе в пригород.
Как всегда, я пришла рано, задолго до конца тренировки. Это было мое любимое время недели. В спортивном зале с жужжащими неоновыми лампами время словно замирало. На выцветших татами под благосклонным взором Дзигоро Кано, изобретателя дзюдо, возились и боролись маленькие львята. И среди них — моя шестилетняя дочь. Белое кимоно было еще великовато для ее детского тельца. Я не могла отвести от нее глаз.
Зазвонил телефон. Я бы не ответила никому, но это была мама. Ее голос дрожал от волнения, я несколько раз просила ее не нервничать и объяснить, что происходит.
— У меня был разговор с твоей дочкой.
Леля пыталась зажечь сигарету, чтобы успокоиться, но зажигалка не срабатывала.
— Сходи на кухню за спичками, мама.
Она положила трубку и пошла искать, чем прикурить, а дочка тем временем уверенно и энергично швырнула на пол мальчика, который был гораздо крупнее нее. Я расцвела от материнской гордости, — но тут вернулась моя собственная мать; она дышала ровнее с каждым глотком дыма, попадавшим в легкие. И тогда она повторила мне то, что сказала ей Клара: «Да просто в школе не слишком любят евреев».
У меня зазвенело в ушах, я хотела отключиться (извини, мама, заканчивается занятие, перезвоню позже)… Рот наполнился горячей слюной, спортзал накренился, и, пытаясь за что-то ухватиться, я впилась взглядом в кимоно дочки, словно в белый спасательный плот, и сумела сделать все, что полагается матери: поторопить дочь, помочь ей переодеться, сложить кимоно и убрать в спортивную сумку, найти носки, застрявшие в брючинах, потом достать шлепанцы, упавшие за скамейку, собрать все эти мелкие предметы — обувь, ланчбокс, перчатки на резиночке, которые просто созданы исчезать во всех углах. И еще обняла дочку и со всей силы прижала к груди, чтобы успокоить сердце.
«Да просто в школе не слишком любят евреев».
Пока мы возвращались домой, эта фраза плыла следом за нами по улицам, я ни в коем случае не хотела о ней говорить, я хотела забыть этот разговор, как будто его не было; я влезла в домашние тапочки и вместе с ними — в домашнюю рутину, я отбивалась от него как могла: купанием дочки, макарошками с маслом, сказкой про бурого медвежонка, чисткой зубов — всем ритуалом привычных дел, не оставляющих места для размышлений. Отстраниться. Вернуться в образ матери-скалы, нерушимой опоры.
Зайдя в комнату Клары, чтобы поцеловать ее на прощание, я знала, что надо спросить у нее: «Что произошло в школе?»
Но вместо этого я будто споткнулась обо что-то внутри себя.
— Спокойной ночи, птичка, — сказала я и выключила свет.
Но сон не шел. Я ворочалась в постели, мне было жарко, бедра горели, я открыла окно. Потом встала — все мышцы свело судорогой. Я включила лампу возле кровати — чувство тревоги не уходило. Словно к подножию кровати подтекала мутная вода из какой-то грязной лохани — будто жижа, мерзкая жижа войны, застоявшаяся в каких-то подземных дырах, поднялась из сточных канав и просочилась сквозь половицы паркета.
И вдруг перед моими глазами возникла картинка. Я увидела ее совершенно четко.
Фотография оперного театра Гарнье, сделанная на закате. Как вспышка.