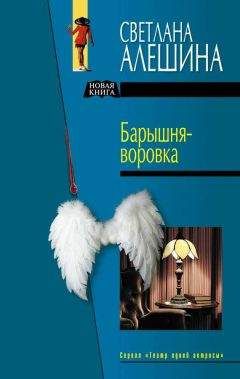Александр Житинский - Лестница. Плывун: Петербургские повести.
— У вас есть бритва? — вежливо спросил Пирошников дядюшку. — Мне необходимо побриться.
Дядя Миша столь же корректно выразился в том смысле, что бритва есть и он предоставит возможность ею воспользоваться. Никаких вопросов о вчерашнем, никаких замечаний о ночных событиях, ничего! Новая жизнь начиналась истинно по-джентльменски. Пирошников даже подумал несколько наивно, что вот и дядюшка начинает новую жизнь, и Наденька тоже… Впрочем, может быть, так оно и было.
Наденька, проводив их и дав указания, скрылась. Ванная комната оказалась просторной, так что дядюшка с Пирошниковым не мешали друг другу. Пока один мылся, другой скоблил подбородок, и наоборот. Пирошников, чтобы отрезать себе пути отступления к старой жизни, вымыл голову и с удовольствием причесался на пробор. Когда он выходил из ванной, гладкий и сияющий, как яблоко сорта «джонатан» венгерского производства, из своей комнаты выплыла соседка Лариса Павловна, с голосом которой наш герой имел уже честь познакомиться ночью. Она была, как и Наденька, в халате, правда другого качества: стеганом, синтетическом каком-то и розового цвета. Росту Лариса Павловна была небольшого, а комплекцией напоминала гипсовую скульптуру, столь неосторожно расколотую дядюшкой. Но это не более чем совпадение, как мне кажется. Черты Ларисы Павловны были очень милы, но они, как и вся ее фигура, вызывали сразу же в голове какие-то такие мысли, которые и передать-то стыдно. Чувственные какие-то мысли, будь они неладны! На вид Ларисе Павловне было тридцать, и, несмотря на утренний час, была она, как говорится, в форме, то есть успела уже причесаться и наложить нужную косметику.
— С добрым утром, — обворожительно ответила соседка на смущенный несколько кивок и приветствие Пирошникова. Увидев дядюшку в красной майке, вывалившегося из ванной, она удивленно и насмешливо проговорила:
— Вот как! А я и не знала, что у нас теперь филиал гостиницы!
И она удалилась в кухню, пройдя мимо насторожившегося дядюшки, который поглядел ей вслед оценивающе и с неприязнью. Потом наши друзья вернулись в свою мастерскую, где Пирошников привел в порядок раскладушку, после чего делать стало нечего. Между тем новая жизнь требовала непрерывной и полезной деятельности, ибо каждая минута тоски и уныния возвращала жизнь старую. Пирошников подошел к окну и полюбовался видом городского пейзажа. По улице неторопливо шли люди, тоже, по всей вероятности, начавшие новую жизнь; многие были одеты нарядно по случаю выходного дня, пьяных не было заметно, декабрьское солнце согревало улицу скудным своим теплом, от которого чуть плавилась корка льда на карнизе. Дядюшка в это время, уже вполне одетый, сидя на стуле, читал газету, которую неизвестно где достал.
Снова вошла Наденька и объявила, что пора завтракать. Все шло как в туристическом круизе по городам Прибалтики (я имею в виду культуру обслуживания). Странно, но у Пирошникова не возникало никакого неудобства по поводу подобного гостеприимства, которым он безвозмездно пользовался уже вторые сутки. Они с дядей Мишей пошли в Наденькину комнату, причем дядюшка похлопывал своего молодого друга, доставившего ему столько развлечений, по плечу и что-то рассказывал из свежих газетных впечатлений.
Завтрак прошел непринужденно. Словно и не было вчерашней беготни, неразберихи, головокружительных трюков лестницы, темных отражений и ночных разговоров. Никто не упомянул о них ни словом. Толик был еще не выпускаем Наденькой с дивана и завтракал, сидя на нем. Впрочем, вид его не внушал тревоги. Наденька, обращавшаяся к нему поминутно, ответов почти не получала. По всей видимости, мальчик по-прежнему стеснялся общества.
Итак, вокруг лестничного феномена установился некий заговор молчания, и наш герой, начавший, напоминаю, новую жизнь, был благодарен дядюшке и племяннице за их тактичность. И вправду, если не замечать какого-то явления, можно в конце концов внушить себе мысль, что его и в природе не существует. Именно такой целью задались, должно быть, наши герои в это субботнее утро.
Наскоро позавтракав, дядюшка объявил, что идет в Эрмитаж, и получил от Наденьки и Владимира подробные указания, как туда добраться. Он обещал быть к вечеру и, прощаясь, пожал молодому человеку руку весьма дружественно, однако как бы и насовсем, из чего Пирошников заключил, что дядюшка надеется на его благополучное отбытие. Спросив еще для чего-то, где находится Военно-морской музей, дядя Миша исчез в дверях, оставив Наденьку и Пирошникова, вместе с мальчиком пьющими еще чай.
— Обновляешься? — спросила Наденька, как только дядюшка вышел; спросила, держа в одной руке чашку, а в другой кусок хлеба с маслом и поглядывая на Пирошникова иронически. Наш герой, надо сказать, обиделся, поскольку решил отнестись к своему обновлению серьезно, постановив, что оно бесповоротно и окончательно. Поэтому он лишь пожал плечами, показывая неуместность подобного тона.
— Пуговицу пришить? — спросила опять Наденька, указывая на пиджак Пирошникова. — Как же без пуговицы обновляться?
Молодой человек сдержанно и с достоинством отверг эту явную насмешку и поднялся со словами благодарности и прощания. Он был уверен, что теперь-то в состоянии выбраться отсюда без посторонней помощи. Новая жизнь была тому порукой. Решив не откладывать дело в долгий ящик, он оделся и сказал даже Наденьке, что как-нибудь при случае, когда будет свободен от дел (вот именно!), навестит ее и расскажет о дальнейшей своей новой судьбе.
Наденька церемонно поклонилась, однако в глазах ее почему-то прыгали подозрительные огоньки, и вообще она едва сдерживала улыбку. Пирошников же, степенно проговорив: «До свидания, большое спасибо», заглянул еще и в кухню, где повторил те же слова пребывавшей там Анне Кондратьевне, на что она отреагировала изумленным взглядом, а затем, твердо пройдя по коридору, вышел на лестницу.
В тот момент, когда наш герой покидал (ужель в последний раз?) квартиру, туда ворвалась с пронзительным мяуканьем кошка Маугли, томившаяся за дверью в ожидании. Пирошников проводил ее ласковым взглядом как невольную свидетельницу вчерашних ужасов и начал спуск, напевая себе под нос «Нам нет преград ни в море, ни на суше…» — однако, следует признать, в глубине души он испытывал беспокойство.
Лестница встретила его чистотой и порядком. Ступеньки влажно блестели, вымытые чьими-то заботливыми руками, на разных этажах раздавались разные голоса, кто-то перекликался, звал кого-то и тому подобное. Пирошников, засунув руки в карманы, прошел этажа два вниз, но был остановлен процессией из трех человек, которые на широких ремнях тащили вверх черное, старинной формы пианино с бронзовыми подсвечниками, прикрученными к передней стенке. Процессия занимала всю ширину пролета от перил до стены, и наш герой начал пятиться назад, пока не достиг площадки, где, по его расчетам, можно было разминуться. Однако, когда пианино под надсадное дыхание грузчиков проплывало мимо него, прижавшегося в этот миг к стене, что-то треснуло, процессия качнулась, раздался крик «Поберегись!» — и инструмент навалился на Пирошникова, который изо всей силы уперся ему в бок и тем сохранил равновесие системы.