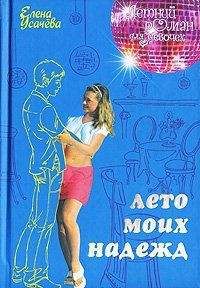Алесь Кожедуб - Уха в Пицунде
— Голышом? — спросил я.
— Да нет, в шортах, — засмеялся Дима.
Одна из голых девушек помахала нам рукой.
— Я тоже хочу нудистом, — заныл Егор.
— Пожалуйста, — пожал я плечами.
Егор снял шортики — и остался в плавках.
— Это не считается, — сказал я.
— Я передумал, — отвернулся Егор.
До обеда мы плавали, жарили на костре мидий, фотографировались среди какмней, потом возвращались к Люське и Тоньке.
Егор все-таки приручил Люську, она терпела, когда он носил ее на руках лапами кверху. Тонька при этом ревниво взвизгивала.
— Пропали бы без этого сада, — сказала жена, отодвигая табуретку в тень лиственницы.
— А без кошки с собакой? — спросил я.
Она молча согласилась со мной. Не было бы Люськи и Тоньки, Егор доставал бы нас. Очень общественный ребенок, в одиночестве минуты не посидит.
— Хозяйка! — послышалось от калитки.
Тонька залаяла, Люська вырвалась из рук Егора и в два прыжка оказалась у ступенек, ведущих к калитке.
— Дом сдается? — спросила меня женщина средних лет, судя по всему, отдыхающая.
— Нет.
— Як не? Мне сказалы, шо тут не занято.
— Занято, — встал рядом с Люськой Егор, и они были очень занятной парой, мальчик с кошкой. — А вы русского языка не знаете?
— Чому не знаю, — повела плечом женщина. — Я всэ знаю, шо мне треба.
— Папа иногда тоже по-белорусски говорит, но только с теми, кто по-русски не понимает, — стоял на своем Егор. — В Крыму все по-русски говорят.
— Це Украина! — рассердилась гостья. — И я розмовляю на державной мове!
— Что она сказала? — повернулся ко мне Егор.
— Шел бы ты лучше в дом, — сказал я.
— Не пойду! — заартачился он.
Люська дернула тонким хвостом, проявляя, очевидно, солидарность с сыном.
— Це наша земля, и москалям тут николы не пануваты! — разошлась мадам. — А як приихалы в гости, то не дуже посмихайтеся!..
— Собака сейчас с цепи сорвется, — сказал я.
— Я спущу! — помчался к Тоньке Егор.
Гостья не менее резво исчезла с глаз, не забыв захлопнуть за собой калитку. Некоторое время ее голос хорошо слышался на улице. Но курятники для отдыхающих в это время пусты, народ трудится на пляже, так что слушать ее было некому.
— А тебя кто просил вмешиваться? — сурово посмотрел я на Егора.
— Я пошутил.
— Шутник… В следующий раз чтоб молчал, как рыба.
— Папа, а белорусы русских понимают? — взглянул на меня исподлобья Егор.
— Конечно.
— А украинцы?
— Тоже.
— И эти… как их… о которых дядя Сережа говорил?
— Бандеровцы? — почесал я затылок. — Понимают, но делают вид, что не очень. Собственно говоря, они скорее петлюровцы, чем бандеровцы. Знамя петлюровское, Мазепа на гривнях по стоимости намного дороже, чем Хмельницкий…
Я замолчал.
Егор некоторое время молча ходил следом за Люськой, о чем-то думая. Тонька, вдоволь налаявшись, лежала, высунув язык, и ждала честно заработанной еды.
— Сейчас хозяйка выйдет и даст, — сказал я ей.
— Папа, — вывернулся из-за спины Егор, — а Люська у нас украинка или русская?
Я посмотрел на Люську. Наверно, украинка. Хитрая, глазастая, в обиду себя не даст. Правда, больно худа для хохлушки, и хлеб любит больше сала. Вот Тонька истинная белоруска, скажут умереть на боевом посту — умрет. А главное — проста, довольно ей и маленького кусочка колбаски.
«Но кто тогда Швондер?! — вдруг с ужасом подумал я. — Неужели русский?!»
Похоже, так оно и было. Только слепой может подойти к бездне, слушая сладкие песни демократов, остался ему один маленький шажок, чтобы загреметь в нее. Правда, у нашего Швондера есть Сергей, который на руках переносит его через дорогу, а у русских кто? Бедный русский Швондер… Был бы он настоящий, устроился приживалой у какого-нибудь Рабиновича и в ус не дул.
— У животных национальности нет, — положил я руку на плечо Егору, — они по другим законам живут.
— Как кошки с собаками? — понял сын. — Но Люська и Тонька не ссорятся. И Швондера не трогают.
— Мы тоже не ссоримся, — вздохнул я. — Все из Киевской Руси вышли. Сейчас у нас просто временные трудности.
— И Крым будет наш? — спросил сын.
— Общий.
Я подошел к калитке. Отсюда открывалась чудная панорама: парк оздоровительного комплекса, густая зеленая шкура Медведь-горы, синее спокойное море с белым теплоходиком на его глади.
Люська потерлась о мою ногу и хрипло мяукнула. Тонька шумно вздохнула, брякнув пустой миской. А Швондера не было — он появлялся вместе с Сергеем.
Надвигался вечер. Еще чуть-чуть — и окрестности гор утонут в сизой мгле, опускающейся с неба. Над головой замерцают звезды, засияет луна, в кустах заскрипят цикады. Мы будем сидеть за столом и пить чай. Егор даст Люське кусок хлеба, и Тонька будет смертельно завидовать ей, думая, вероятно, о жестокой несправедливости жизни, в которой трудяги не имеют куска хлеба, а лентяи и проходимцы воротят нос от мясной кости.
До меня доносилось живое дыхание огромного моря, и Партенит мне представлялся утлым суденышком, пронзающим тьму веков.
Злющая жена татарина
В последний раз в Сочи я был ровно тридцать лет назад. Точнее — в Дагомысе, но это одно и то же.
Я проходил здесь пионерскую практику, работал воспитателем первого отряда. Мои воспитанницы, вполне оформившиеся резвые особы, были ненамного младше меня, что, конечно, осложняло дело, но и давало неоценимые преимущества. Они спокойно обсуждали со мной вопрос, можно ли выйти замуж в четырнадцать лет, впятером пытались меня утопить в море, и честное слово, я едва спасся, а запах молочной кожи одной очаровательной дуры, объяснившейся мне в любви на прощальном костре, я помню до сих пор.
— Хочешь, я останусь с тобой навсегда? — спросила она.
Я промычал что-то нечленораздельное.
— Скажу папке с мамкой, что мы здесь остаемся отдыхать. Пока ты не уедешь. — Она вздохнула.
— А потом? — спросил я.
— Потом я приеду к тебе в Минск, — удивилась она.
— Да? — тоже удивился я. — Молодая еще.
Ей было четырнадцать лет, мне семнадцать, и молодым, конечно, был я.
— Не бойся, — погладила она меня по голове и прижалась тонким тугим телом.
Я понюхал ее шею за маленьким ушком — да, пахло парным молоком с едва уловимой примесью пота. Сейчас я могу сказать: если бы кто-нибудь придумал духи, в которых сочетались запахи парного молока и юного пота, им бы не было цены.
В то лето мы с Саней оттягивались в Дагомысе на полную катушку. Саня, мой однокурсник, родился и вырос в Дагомысе, и эта сочинская печать осталась на его лбу навсегда. Ее отблеск заворожил даже меня, замшелого бульбаша, родившегося в сонном мареве пинских болот.
Отец рассказывал, что появиться на свет я попытался где-то на дороге между Логишином и Ганцевичами. Мы все — я хоть и сидел в животе, но уже был — переезжали из Логишина в райцентр, куда отца назначили главным бухгалтером райпотребсоюза. И вдруг где-то на полпути мотор «полуторки», в которой мы ехали, заглох. Я и до того вел себя не очень спокойно, лягался и брыкался будь здоров, а тут решил — пора. Мать закричала.
— Я выхватил из-под сиденья топор, — рассказывал мне отец, — подскочил к водителю: «Убью, если не заведешься!» Она сразу и завелась.
— А я? — спросил я.
— Ты назад полез. Доехали до роддома, положили в палату мать, ты и родился. А если бы за топор не схватился, так бы и погибли в болотах. В те времена там ни одно живой души на сто верст.
После его рассказов я понял, почему у меня так щемит сердце, когда я попадал осенью на пустынную дорогу среди болот. Низкие облака, чахлые сосенки и елочки, туман, шуршащий в полуоблетевших кустах, свист ветра, похожий на волчий вой. По этой дороге я готов идти до самого конца…
Но под дагомысским солнцем не выдержала и дубленая шкура бульбаша. Я в Дагомысе расслабился. До обеда мы с Саней отсыпались у него дома, потом, наскоро перекусив, шли на пляж играть в «кинга» или «секу», а там рукой подать до танцев на турбазе. К тому времени моя практика в лагере закончилась, пионерки разъехались по домам, и нашей главной задачей было удержать от опрометчивых поступков Левика, парня из Еревана, с которым мы познакомились на пляже. Но удержать его не удалось. У Левика были полные карманы денег, и он швырялся ими, как истинный армянин, отдыхающий в Сочи. Мы с тревогой следили, как пустеют левиковы карманы, стараясь подольше растянуть процесс расшвыривания, однако деньги, как всегда, кончились неожиданно. Левик не смог расплатиться за проигрыш в «секу».
— Покажи, где почта, — сказал Левик Сане.
— Зачем? — спросил Саня.
— Хочу слать телеграмма.
Мы пошли на почту. Левик сел за изрезанный перочинным ножом стол, долго смотрел на чистый бланк, потом сказал: