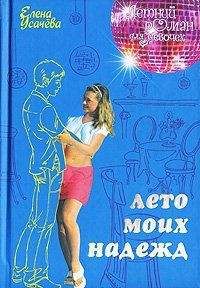Алесь Кожедуб - Уха в Пицунде
Иван Федорович приехал домой — жена плачет.
— Ты что?! — удивился он.
— Ничего! — вскинулась Татьяна. — Разве это отдых — по Америкам разъезжать?! Дождаться не могла, когда в самолет сядем…
Она отвернулась к окну.
— Нормально прокатились, — пожал плечами Иван Федорович. — Всего три раза оштрафовали.
— А три тысячи долларов за двадцать дней?
— Заработаем, — обнял он ее за плечи. — Зато подруги удавятся, когда расскажешь, как в пустыне ночевали.
— Пустыня! — фыркнула Татьяна. — Да я эти гостиницы видеть уже не могла… А еда? Если бы я тебя так кормила, ты бы точно удавился. Завтра отвезешь меня на дачу, и больше я никуда ни ногой!
— Мы еще в Австралии не были.
— Без меня! — топнула ногой жена. — Езжай, прыгай с кенгуру, бегай со страусами, а я с дачи никуда. Думала, в Америке люди живут, а они даже человеческого унитаза не могут в номер поставить…
— С вами, бабами, не договоришься, — махнул рукой Иван. — Ладно, завтра везу тебя на дачу, оттуда на фирму. Тоже разболтались, наверное…
Впрочем, это было вполне естественно. Хозяин из дома — мыши на стол. Главное, чтоб не утащили ключ от сейфа, в котором деньги лежат.
Татьяна издали увидела, что дверь на веранде открыта.
— Ограбили! — схватила она мужа за руку.
— Спокойно! — стал оглядываться по сторонам Иван. — Следов, вроде, не видно. Опять же, замок на калитке цел. Скорее всего — бомжи.
Он осторожно вошел в дом. Жена кралась следом.
— Сидит! — удовлетворенно сказал Иван Федорович. — Попался!
— Кто?! — отпрянула назад Татьяна.
— Кто-кто — вор, — наклонился над крышкой подвала муж. — Сработала защелка.
— А почему ты мне ничего не сказал?
— Потому, — сурово взглянул на нее Иван. — Одному скажешь — весь поселок узнает.
— Я здесь вообще ни с кем не общаюсь! — оскорбилась Татьяна.
— И правильно делаешь, — зачем-то выглянул в окно Иван Федорович. — Вроде, ничего не украли. Один пришел.
— Будем милицию вызывать?
— Зачем милицию? Сами разберемся.
Иван сбегал в хозблок, вернулся с топором.
— Ты на всякий случай выйди на веранду, — сказал он. — Ежли что — беги к соседям.
— Давай лучше в милицию…
— Все, открываю.
Иван встал на колени, повозился с защелкой и осторожно потянул на себя крышку люка. Волна тяжелого духа, шибанувшая снизу, едва не сбила его с ног.
— Ни хрена себе! — зажал он двумя пальцами левой руки нос, наклонился над ямой. — Ты живой?
— Живой… — донеслось снизу.
— Слава Богу! — выпрямился Иван Федорович. — Вылезай, но чтоб без шуток!
Он перехватил поудобнее топор.
В глубине подвала послышалась возня, показались грязные руки, ухватившиеся за край люка, затем седая борода, тоже грязная. Вид ослепшего от дневного света узника был страшен. Из зажмуренных глаз текли слезы, в провалившемся рту шевелился распухший язык, из тощего горла вырывались хрипы и стоны. Это было явление с того света, по-другому не скажешь.
Преодолевая отвращение, Иван Федорович схватил вора за шиворот и выволок наверх. Ноги не держали бомжа, и он повалился набок, содрогаясь в конвульсиях.
— Господи!.. — ахнула за спиной Татьяна. — Иван Михайлович!..
— Какой Михайлович? — наклонился над вором хозяин. — Михалыч, ты, что ли?
Перед ним был сосед собственной персоной. Опухший, провонявший, с бессмысленным взором и нечленораздельной речью, но сосед, тот самый Михалыч, с которым они выпивали на дорожку перед отъездом в Америку.
— И чего ты сюда поперся? — брезгливо отодвинулся от него Иван Федорович. — Огурчиков захотелось?
Михалыч замычал, пытаясь сесть.
— Да лежи ты! — поморщился хозяин. — Пол испортишь. Тань, согрей бак воды. Его самого надо помыть, а одежду сжечь.
— И покормить, — подсказала Татьяна.
— Это потом. Он что — ходил под себя?
— Там туалета нету, — напомнила жена.
— Зато теперь у нас вместо подвала выгребная яма, — глянул на жену Иван Федорович. — Значит, так, Михалыч. Сначала ты выскребешь и вымоешь подвал. Это первое. Потом вставишь стекло и новый замок. Это второе. И третье — продашь мне свой участок вместе с халупой. Чуешь, Михалыч? Много не заплачу, но и в милицию не сдам. Договорились?
Михалыч, который уже сидел, опираясь спиной на стену, обреченно кивнул головой. Там, в подземелье, он только об этом и думал — о расплате. Цену за свое освобождение он знал.
— Как там… в Америке? — прохрипел Михалыч. — Хорошо живут?
— Нормально, — опешил Иван Федорович — и захохотал. — А для тех, кто залезет в подвал к соседу, электрический стул. Частная собственность — это ж высшее достижение демократии!
— У нас тоже… — повесил голову Михалыч. — Путин недавно выступал… результаты приватизации пересмотру не подлежат.
— У тебя что, радио было в подвале? — насторожился хозяин.
— Телепатия. А доллары твои целы. Молодец, много заработал.
— Как-кие доллары… — стал заикаться Иван Федорович. — У тебя что — к-крыша поехала?
Он воровато оглянулся на дверь.
— Сначала было худо, — поднял голову Иван Михайлович. — А потом пришла крыса — и полегчало. Несколько бумажек подмокло, остальные лежат в банке.
Глаза у Михалыча наконец-то прояснились. Лысая акула империализма стала еще глаже, чем была до Америки. Участок с домиком исчезнут в ее пасти, как мелкая рыбешка.
На веранде брякала тазами Татьяна. Вот она, волюшка — с помывкой, куплей-продажей, солнышком, заглядывающем в окно.
Остался в живых, Михалыч, — и ладно. Значит, не до конца испил ты свою земную чашу. Горька вода в чаше, но другой там не бывает.
Из подвала сильно несло выгребной ямой, и Михалыч, кряхтя, стал подниматься на ноги. Земные дела не ждали.
Люська, Тонька и Швондер
Люська, Тонька и Швондер достались нам в придачу к дому, который мы сняли на месяц в Партените, бывшем Фрунзенском, под Ялтой. Точнее, под Медведь-горой, потому что большая Ялта начиналась с той стороны Медведь-горы, Партенит же относился к Алуште.
Люська была серая кошка с немигающими зелеными глазищами. Где-то я читал, что кошки вышли из Египта, эта была истинная египтянка. Она признавала лишь власть фараона, то бишь Сергея, хозяина дома, обожала черный хлеб, и любимым ее развлечением было дразнить собаку Тоньку. Поймав, например, крысу, Люська съедала голову и туловище, а хвост относила Тоньке. Та обиженно отворачивалась. Тогда Люська вытаскивала из Тонькиной миски кость и клала ее там, куда Тонька не дотягивалась. Та приходила в ярость, бесновалась на цепи, визжала, царапала когтями землю, и кость лежала в сантиметре от ее лап. Это можно было бы назвать издевательством, если бы Люська лишала Тоньку кости навсегда. Но Люська, потешившись минут пять, подбрасывала кость подруге и убегала по делам — на крышу, где она любила спать, в кусты на охоту или через дорогу к черному коту Мусику, который, по-моему, ее боялся.
Тонька была у нас сторожем. Она сидела на цепи, лаяла на чужих и была сколь честна, столь и простодушна. Настоящая сторожевая собака. Черная, как смоль, она часами лежала в тени, следя одним глазом за мухами, вторым за нами. Во время обеда Тонька испускала скулящие вздохи, от которых становилось совестно не только мне или жене, но и Егору.
— Папа, можно, я ей дам кусок колбасы? — спрашивал он.
— Я ей полную миску борща налила! — оправдывалась жена.
— В миске уже пусто, — говорил Егор.
— Тебе бы только колбасу не есть, — бурчал я. — Вон Люська не просит, ей больше и достается.
— Люська на свободе, — резонно возражал Егор. — И хлеба не жалко.
Это было истинной правдой. Люська возлежала, как Нефертити, у ног Егора, и в упор нас не видела. Ради интереса мы клали у ее морды маленький кусочек сырокопченой колбасы и большой кусок черствого хлеба. Обнюхав то и другое, Люська хватала хлеб в пасть и уходила за куст. Кусочек колбасы, естественно, доставался Тоньке.
По вечерам к нам приходили хозяева, Сергей и Надя. Летом они переселялись к родителям Нади.
— Не заработаем на курортниках — не проживем, — признавался Сергей. — Нынешняя зарплата — это как муха на завтрак Тоньке.
Тонька, услышав свое имя, радостно взвизгивала.
Вот с ними-то, Сергеем и Надей, приходил Швондер, маленький, хмурый, слепой кобелек. Сергей сидел с нами за столом, Люська, устроившись у него на коленях, облизывала ему живот. Швондер лежал на земле, прижавшись к ноге Сергея.
— Он теперь без меня ни шагу, — рассказывал Сергей. — Я его щенком подобрал в гаражах. Хороший песик, но злой. Особенно не любил милиционеров. Как увидит мента в форме — штаны готов порвать. Ну и напоролся однажды, приполз весь в крови. Я его отпоил, отходил, но смотрю — стал слепнуть. То на табуретку наткнется, то на колесо. По голове, видно, сильно стукнули. А в гараже, сами знаете, штыри, углы, железяки. Наткнулся одним глазом, вторым, теперь ничего не видит, только за мной и бегает. Когда через дорогу переходим, я его на руки беру. Жалко.