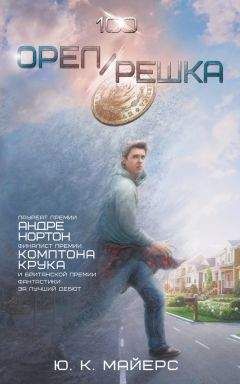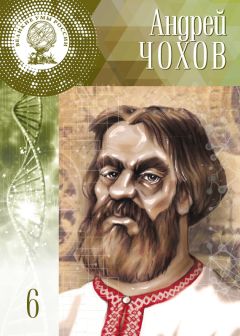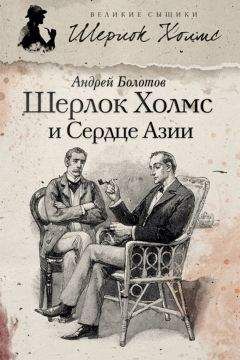Андрей Макин - Французское завещание
В один из таких вечеров я услышал, что кто-то меня окликает. Голос донесся, казалось, из древесных крон. Я поднял голову – и увидел Пашку! Квадрат танцплощадки окружал высокий дощатый забор. За ним стеной вставали деревья – нечто среднее между запущенным парком и лесом. Там-то, на толстом кленовом суку над забором, он и сидел.
Я только что покинул танцплощадку после того, как по своей неловкости толкнулся о груди партнерши. До этого мне не доводилось танцевать с такой зрелой девушкой. Мои ладони, лежавшие на ее спине, сразу вспотели. Обманутый неожиданной руладой оркестра, я спутал фигуры и столкнулся с ней грудь в грудь. Эффект был посильнее электрического разряда! Нежная упругость женской груди потрясла меня. Я продолжал топтаться на месте, не слыша музыки и видя вместо красивого лица партнерши какой-то фосфоресцирующий овал. Когда оркестр умолк, она отошла, ни слова не говоря, видимо раздосадованная. Я пересек площадку, скользя между танцующими, как по льду, и вышел.
Мне надо было побыть одному, опомниться, отдышаться. Я шагал по дорожке вдоль ограды танцплощадки. Ветер с Волги освежал мой пылающий лоб. «А что, если она сама, – вдруг подумалось мне, – сама, нарочно со мной столкнулась?» Не могло ли быть так, что она хотела дать мне ощутить упругость ее груди, и это был при зыв, которого я по своей наивности и робости не сумел расшифровать? Может быть, я упустил величайший в жизни шанс!
Как ребенок, который, разбив чашку, закрывает глаза в надежде, что за этот краткий промежуток темноты все станет как было, я крепко зажмурился: почему бы оркестру не заиграть снова ту же мелодию, а мне – не найти свою партнершу, чтобы повторить все, шаг за шагом, вплоть до заключительного прикосновения? Никогда еще я не ощущал и, быть может, не сумею больше ощутить с такой остротой неимоверно интимную близость и в то же время безнадежнейшую отдаленность женского тела…
В этом-то смятении чувств я и услышал голос притаившегося в листве Пашки. Я поднял глаза. Он улыбался мне, растянувшись на толстом суку:
– Давай залезай! Я подвинусь, – сказал он, подбирая ноги.
Неуклюжий и тяжеловесный в городе, на природе Пашка преображался. Здесь, на дереве, он был похож на большого дикого кота, отдыхающего перед ночной охотой…
В любой другой ситуации я пренебрег бы Пашкиным приглашением. Но его позиция была слишком необычной, а к тому же я чувствовал себя застигнутым на месте преступления. Как если бы он со своей ветки перехватил мои воспаленные мысли! Он протянул мне руку, и я взобрался к нему. Это дерево оказалось превосходным наблюдательным пунктом.
Сверху волнообразное движение сотен обнявшихся пар выглядело совсем иначе. Оно казалось одновременно и абсурдным (столько народу топчется на одном месте!) и наделенным некоей логикой. Тела перемещались, сближались на время танца, расходились, иногда льнули друг к другу. С нашего дерева я мог одним взглядом охватить все чувствительные сценки, разыгрываемые на площадке. Соперничество, поддразнивание, измены, любовь с первого взгляда, разрывы, объяснения, зарождающиеся драки, быстро нейтрализуемые бдительными блюстителями порядка. А главное – желание, пробивающееся сквозь вуаль музыки и ритуал танца. Я нашел в этих людских волнах девушку, грудей которой недавно коснулся. Какое-то время я следил за ее передвижениями и сменой партнеров…
Я чувствовал, что в целом это коловращение что-то мне коварно напоминает. «Жизнь!» – подсказал вдруг немой голос, и губы мои безмолвно повторили: «Жизнь…» То же кишение тел, движимых желанием, которое они маскируют всевозможными личинами. Жизнь… «А где же во всем этом я?» – спрашивал я себя, догадываясь, что ответ на этот вопрос сулит рождение какой-то необычайной истины, которая все раз и навсегда объяснит.
С аллеи донеслись крики. Я узнал голоса моих одноклассников, возвращавшихся в город. Я ухватился за ветку, готовясь спрыгнуть. Голос Пашки, огорченный и заискивающий, прозвучал неуверенно:
– Погоди! Сейчас погасят прожектора, увидишь, сколько будет звезд! Если залезть повыше, видно Стрельца…
Я уже не слушал. Я спрыгнул с дерева. Земля, заплетенная толстыми корнями, больно ударила в подошвы. Я побежал догонять товарищей, которые удалялись, оживленно жестикулируя. Мне хотелось как можно скорее рассказать им про мою партнершу с красивой грудью, услышать их реплики, оглушить себя словами. Я спешил вернуться к жизни. И со злой радостью пародировал странный вопрос, мысленно заданный себе всего минуту назад: «Где же я? Где ж это я был?» Да на ветке, с этим дураком Пашкой. Рядом с настоящей жизнью!
По причудливой воле случая (я уже знал, что действительность чуть ли не сплошь состоит из неправдоподобных повторов, с которыми, как с серьезным недостатком, борются авторы романов) на следующий день мы с Пашкой снова встретились. С тем смущением, с каким двое приятелей, которые вечером обменивались важными, взволнованными и прочувствованными признаниями, раскрывали друг другу душу до самых сокровенных глубин, встречаются потом при будничном и скептическом свете дня.
Я слонялся около танцплощадки, еще закрытой – было только без чего-то шесть. Я хотел во что бы то ни стало первым пригласить на танец вчерашнюю партнершу. В суеверной надежде, что время вернется вспять и я сумею склеить свою разбитую чашку.
Пашка вынырнул из кустарников парка, заметил меня, секунду поколебался, потом подошел поздороваться. При нем было все его рыбацкое снаряжение. Под мышкой он нес буханку черного хлеба, от которой отщипывал куски и с аппетитом жевал. Я опять почувствовал себя застигнутым на месте преступления. Он окинул оценивающим взглядом мою светлую рубашку с распахнутым воротом и сильно расклешенные по последней моде брюки. Прощально кивнул и пошел прочь. Я вздохнул с облегчением. Но Пашка вдруг обернулся и грубовато бросил:
– Пошли, чего покажу! Пошли, не пожалеешь…
Если бы он остановился в ожидании ответа, я бы промямлил какую-нибудь отговорку. Но он, больше не оглядываясь, уже шел дальше. Я нерешительно побрел следом.
Мы спустились к Волге, миновали порт с его огромными кранами, доками, крытыми шифером складами. Потом ниже по реке свернули на обширный пустырь, где громоздились полуразвалившиеся баржи, изъеденные ржавчиной железные конструкции, штабеля гниющих бревен. Пашка спрятал свою снасть под одним из этих трухлявых стволов и принялся перепрыгивать с развалины на развалину. Был там еще заброшенный дебаркадер, какие-то мостки на понтонах, ходившие ходуном под ногами. Впрочем, стараясь не отстать от Пашки, я не заметил, когда именно мы оставили твердую землю и оказались на плавучем острове корабельного лома. Я цеплялся за болтающийся поручень, соскакивал во что-то вроде джонки, перешагивал через борта, оскользался на мокрых бревнах какого-то плота…
Наконец мы очутились в устье канала с крутыми берегами, сплошь заросшими цветущей бузиной. Всю его поверхность, от берега до берега, покрывали, словно колония ракушек, старые суда и суденышки, в фантастическом беспорядке теснящиеся борт к борту.
Мы примостились на банке какой-то лодки. Над ней нависал борт катера, пострадавшего от пожара. Подальше, запрокинув голову, можно было увидеть наверху, на палубе, протянутую возле рубки веревку: чуть колыхались какие-то выцветшие тряпки – белье, сохнущее здесь который год…
Вечер был теплый и туманный. Запах воды мешался с приторными испарениями бузинных зарослей. Время от времени проходящий вдалеке по середине Волги пароход досылал до нашего канала череду ленивых волн. Лодка под нами начинала клевать носом и тереться о черный борт катера. Все это полузатонувшее кладбище оживало. Слышался скрежет тросов, гулкие всхлипы воды под понтонами, шорох камышей.
– Да, потрясный дрейф! – восхитился я, припомнив слово, обозначавшее, кажется, нечто мореходное.
Пашка глянул на меня немного смущенно, хотел было что-то сказать, но передумал. Я встал, спеша вернуться на Горку… Вдруг мой приятель сильно дернул меня за рукав, заставив сесть обратно, и нервным шепотом объявил:
– Тихо! Идут!
Тут я расслышал шаги. Сперва чавканье каблуков по мокрой береговой глине, потом барабанную дробь по доскам мостков. Наконец, металлическое цоканье прямо над нами, на палубе катера… И только уже из его чрева до нас донеслись приглушенные голоса.
Пашка вытянулся во весь рост и прильнул к борту катера. Только теперь я заметил эти три иллюминатора. Вместо выбитых стекол их заделали изнутри фанерой. В ней были проверчены ножом маленькие дырочки. Не отрываясь от своего иллюминатора, Пашка махнул рукой, приглашая меня последовать его примеру. Ухватившись за стальной выступ, тянущийся вдоль борта, я приклеился к левому иллюминатору. Средний остался незанятым.
То, что я увидел в дырку, было обыкновенно и вместе с тем удивительно. Женщина – я видел только ее голову в профиль и верхнюю половину туловища, – казалось, сидела, облокотись на стол, руки ее лежали параллельно и неподвижно. Лицо было спокойное и даже сонное. Странно было только ее присутствие здесь, на этом катере. Хотя, если подумать… Она слегка кивала завитой светловолосой головой, словно непрерывно поддакивала невидимому собеседнику.