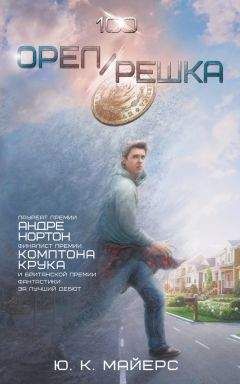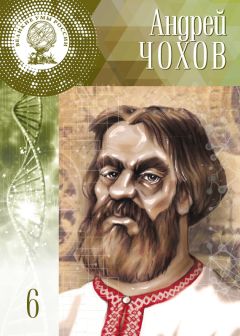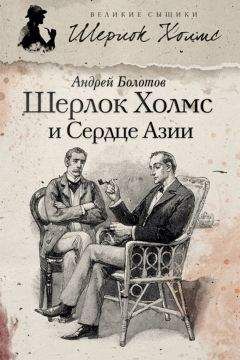Андрей Макин - Французское завещание
Наслаждение было как вспышка спички на ледяном ветру – огонек, который едва успевает обжечь пальцы и гаснет, оставляя в глазах слепую черную точку.
Я попытался ее поцеловать (я считал, что это полагается делать именно сейчас); губы мои наткнулись на крепко закушенный рот.
Но главное, что меня испугало, – всего через секунду мне больше не нужны были ни ее губы, ни острые груди под широко распахнутой блузкой, ни худенькие бедра, на которых она поспешно одернула юбку. Ее тело стало мне безразлично, ненужно. Погруженный в тупое плотское удовлетворение, я вполне довольствовался собственной особой. «И что она тут лежит полураздетая?» – думал я с досадой. Я чувствовал спиной шероховатость досок, ладони горели от заноз. У ветра был тяжелый вкус стоячей воды.
Наверно, в этом отрезке ночи был какой-то промежуток забвения, несколько минут беззвучного, как зарница, сна. Потому что я не увидел приближения парохода. Мы открыли глаза, когда вся его белая громада, сияющая огнями, уже нависала над нами. Я думал, что наше убежище находится в глубине одного из бесчисленных заливов, забитых корабельным ломом. Но оказалось как раз наоборот. В темноте мы забрели на мыс, выдающийся чуть ли не до середины реки… Освещенный пароход, медленно двигаясь вниз по Волге, разом вырос над нашим старым паромом во всю свою трехпалубную высоту. На фоне темного неба вырисовывались человеческие фигурки. На ярко освещенной верхней палубе танцевали. На нас выплеснулась, окутала нас теплая волна танго. Окна кают, освещенные не так ярко, словно наклонялись, давая нам заглянуть в их укромную глубь… Прибой, поднятый пароходом, был так силен, что наш плот описал полукруг со скоростью, от которой у нас закружилась голова. Показалось, что судно с его огнями и музыкой обходит нас кругом… Вот тут она стиснула мою руку и прижалась ко мне. Горячую упругость ее тела, казалось, можно всю взять в ладони, как трепещущее тельце птицы. Ее руки, ее талия были гибки, как тот букет кувшинок, который я однажды сорвал, обхватив под водой сразу несколько податливых стеблей…
Но пароход уже пропал в темноте. Отзвуки танго угасли. Уплывая в свою Астрахань, он уносил с собой ночь. Воздух вокруг нашего парома начинал неуверенно бледнеть. Мне было странно, что мы здесь, посреди большой реки, в этом робком зарождении дня, на мокрых досках плота. А на берегу медленно проступали очертания порта.
Она не стала меня ждать. Не оглядываясь, она перепрыгивала с судна на судно. Она убегала – с ожесточенной поспешностью молоденькой балерины после неудачного выступления. Я с замиранием сердца следил за этим бегством. В любой момент она могла поскользнуться на мокром бревне, оступиться на незакрепленной доске, провалиться между двумя судами, борта которых тут же сомкнулись бы над ней. Напряженным взглядом я поддерживал ее в этом балансировании сквозь утренний туман.
Скоро я увидел ее уже на берегу. В тишине слышно было, как тихонько похрустывает под ее ногами мокрый песок… Это была женщина, еще четверть часа назад такая близкая, и она удалялась. Я ощутил совсем новую для меня боль: женщина удалялась, разрывая невидимые узы, которые еще объединяли нас. И там, на этом пустынном берегу, она становилась необыкновенным существом – женщиной, которую я люблю и которая делается снова независимой от меня, чужой и скоро будет говорить с другими, улыбаться им… Жить!
Услышав, что я бегу за ней, она оглянулась. Я увидел ее бледное лицо, волосы – только теперь я заметил, что они светло-светло-рыжие. Она смотрела на меня молча и без улыбки. Я уже не помнил, что хотел ей сказать минуту назад, когда услышал, как похрустывает мокрый песок у нее под ногами. «Я тебя люблю» было непроизносимой ложью. Одна ее смятая черная юбка, одни ее по-детски тонкие руки были превыше всех на свете «люблю». Предложить ей снова встретиться сегодня или завтра было немыслимо. Наша ночь могла быть только единственной. Как появление парохода, как наш сон, подобный зарнице, как ее тело в прохладе огромной спящей реки.
Я пытался ей это сказать. Я бессвязно говорил о похрустывании песка под ее ногами, о ее одинокости на этом берегу, о ее хрупкости, напомнившей мне в эту ночь стебли кувшинок. Я почувствовал вдруг – почувствовал, как острое счастье, – что надо бы рассказать еще о балконе Шарлотты, о наших степных вечерах, о трех красавицах в осеннем утре Елисейских полей…
Ее лицо скривилось презрительной и в то же время встревоженной гримаской. Губы дрогнули.
– Ты что, больной? – оборвала она меня тем немного гнусавым голосом, каким девушки на Веселой горке отшивали нахалов.
Я стоял как вкопанный. Она уходила, поднимаясь к портовым строениям, и скоро скрылась в их густой тени. У проходной начали уже появляться рабочие.
Несколько дней спустя в ночной толчее Горки до меня долетел обрывок разговора моих одноклассников, не заметивших, что я стою совсем рядом. Одна девчонка из знакомой компании, судя по их словам, осталась недовольна партнером, который не умел «это делать» (мысль была выражена куда грубее), и обнародовала, по-видимому, какие-то комические подробности («умора», – уверял один из них). Я прислушался, ожидая новых эротических откровений. И вдруг прозвучало имя оскандалившегося: Француз… Это была моя кличка -кличка, которой я, пожалуй, гордился. Сквозь общий смех я расслышал, как двое приятелей обменялись репликами «в сторону» на манер заговорщиков: «Надо бы ею заняться сегодня после танцев. На пару, идет?»
Я догадался, что речь шла о ней же. Я вышел из своего укрытия и направился к выходу. Они заметили меня. «Француз… Француз…» – это перешептывание провожало меня какой-то момент, потом потонуло в первой волне музыки.
На следующий день, никому не сказавшись, я уехал в Саранзу.
3
Я ехал в этот сонный, затерянный в степях городишко, чтобы разрушить Францию. Надо было покончить с этой Шарлоттиной Францией, которая сделала из меня какого-то странного мутанта, неспособного жить в реальном мире.
В моем сознании предстоящий акт разрушения должен был представлять собой что-то вроде долгого крика, рева ярости, который лучше всего выразил бы мой бунт. Этот вопль нарастал пока еще без слов. Слова придут, я был в этом уверен, как только на меня глянут спокойные глаза Шарлотты. Сейчас я кричал молча. Одни только картины бурлили хаотичным и пестрым половодьем.
Я видел поблескивание пенсне в герметическом полумраке большой черной машины. Берия выбирал себе на ночь женское тело. А наш сосед из дома напротив, тихий улыбчивый пенсионер, поливал на балконе цветы, слушая щебет транзистора. У нас в кухне мужчина с татуированными руками рассказывал о замерзшем озере, полном голых трупов. А все эти люди в вагоне третьего класса, увозившем меня в Саранзу, как будто и не замечали таких душераздирающих парадоксов. Они продолжали жить как ни в чем не бывало.
Своим криком я хотел выплеснуть все это на Шарлотту. Я ждал от нее ответа. Я хотел, чтоб она объяснилась – чтоб оправдалась. Ибо именно она передала мне эту французскую чувствительность – свою, – приговорив меня к тягостному существованию меж двух миров.
Я заговорю с ней об отце с его «дыркой» в черепе – этим маленьким кратером, где билась его жизнь. И о матери, от которой мы унаследовали страх перед неожиданным звонком в дверь в праздничные вечера. Оба мертвы. Неосознанно я винил Шарлотту в том, что она их пережила. В ее спокойствии на похоронах моей матери. И в этой жизни, очень европейской по своему здравому смыслу и чистоте, которую она вела в Саранзе. Я видел в ней олицетворенный Запад, тот рациональный и холодный Запад, на который русские таят неисцелимую обиду. Эта Европа из цитадели своей цивилизации снисходительно наблюдает за нами, варварами, с нашими бедами – за войнами, в которых мы гибнем миллионами, за революциями, сценарии которых она для нас составляет… В моем юношеском бунте была немалая доля этого врожденного предубеждения.
Французский привой, который я считал атрофировавшимся, все еще был во мне и мешал мне видеть. Он расчленял реальность надвое. Как тело той женщины, за которой я подглядывал в два иллюминатора: была женщина в белой блузке, спокойная и очень обыкновенная, и была другая – огромный круп, своей плотской мощью делающий почти ненужным остальное тело.
И тем не менее я знал, что две женщины – на самом деле всего одна. В точности как разорванная реальность. Французская иллюзия мутила мне зрение, подобно тому как опьянение удваивает мир обманчиво живым миражом…
Мой крик набирал силу. Картины, которым предстояло облечься в слова, все быстрее и быстрее кружились перед глазами: Берия, бросающий шоферу: «Догони-ка вон ту, хочу поглядеть…», и человек в наряде Деда Мороза- мой дед Федор, арестованный в новогоднюю ночь, и тонкие руки моей юной возлюбленной – детские руки с голубыми жилками, и вздыбленный круп с его звериной силой, и эта женщина, колупающая лак на ногтях, пока овладевают нижней половиной ее тела, и сумочка с Нового моста, и «Верден», и весь этот французский хлам, испортивший мне юность!