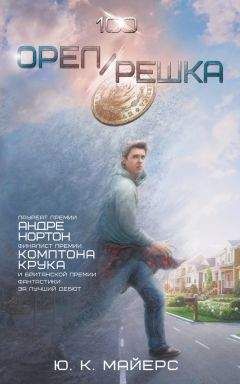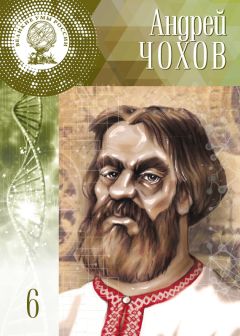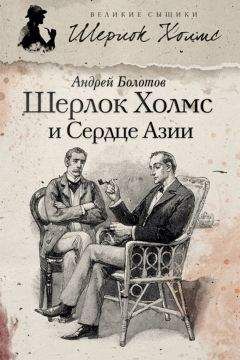Андрей Макин - Французское завещание
То, что я увидел в дырку, было обыкновенно и вместе с тем удивительно. Женщина – я видел только ее голову в профиль и верхнюю половину туловища, – казалось, сидела, облокотись на стол, руки ее лежали параллельно и неподвижно. Лицо было спокойное и даже сонное. Странно было только ее присутствие здесь, на этом катере. Хотя, если подумать… Она слегка кивала завитой светловолосой головой, словно непрерывно поддакивала невидимому собеседнику.
Я оторвался от иллюминатора и оглянулся на Пашку. Я недоумевал: «На что тут, собственно, смотреть?» Но он словно прирос к изъязвленной обшивке, уткнувшись лицом в фанеру.
Тогда я передвинулся к соседнему иллюминатору, припал к одной из скважин, пробитых в фанере, – и утонул…
Мне показалось, что лодка подо мной дала течь, опускается на дно, а борт катера, наоборот, устремляется в небо. Дрожащий в ознобе, примагниченный к шершавому металлу, я старался только удержать в поле зрения ослепившее меня видение.
Это был женский зад белоснежной, монументальной наготы. Да, бедра коленопреклоненной женщины, тоже в профиль, ляжки, ягодицы, испугавшие меня своей огромностью, и начало талии, срезанной границей обзора. Позади этого громадного крупа стоял, тоже на коленях, солдат – брюки расстегнуты, гимнастерка в беспорядке. Ухватившись за бедра женщины, он тянул их на себя, словно хотел целиком уйти в эту гору плоти, которую в то же время отталкивал неистовыми содроганиями всего тела.
Лодка у меня под ногами закачалась. Подымающийся по Волге пароход пригнал волны в наш канал.
Одна из них заставила меня потерять равновесие. Чтобы не упасть, я шагнул влево – и оказался у первого иллюминатора. Я прижался лбом к его стальной оправе. В глазке появилась завитая женщина с равнодушным и сонным лицом, та, которую я видел сначала. Облокотясь на что-то вроде скатерти, одетая в белую блузку, она продолжала поддакивать кому-то мелкими кивками и рассеянно разглядывала свои пальцы…
Этот, первый, иллюминатор – и второй. Женщина с тяжелыми сонными веками, ее одежда и прическа, такие обыкновенные. И та, другая. Вздыбленный голый круп, эта белая плоть, в которую старается проникнуть мужчина, рядом с ней кажущийся заморышем, тяжелые ягодицы, грузное движение бедер. В моем ошеломленном мозгу эти две картины никак не могли связаться. Невозможно объединить этот верх женского тела – и этот низ!
Я был так возбужден, что борт катера вдруг показался мне лежащим горизонтально. Распластавшись по нему, как ящерица, я переполз к иллюминатору с голой женщиной. Она была все еще там, но могучие округлости ее плоти оставались недвижимы. Солдат, теперь уже анфас, застегивался вялыми, неловкими движениями. А другой, ростом меньше первого, опускался на колени позади белого крупа. Этот в отличие от первого двигался с нервной, боязливой поспешностью. Но едва он начал дергаться, толкая животом тяжелые белые полушария, он стал неразличимо похож на первого. Между их действиями не было ни малейшей разницы.
В глазах у меня уже кишели черные иголки. Ноги подкашивались. А сердце, притиснутое к ржавому металлу, сотрясало все судно гулким частым эхом. Очередная вереница волн закачала лодку. Борт катера снова встал вертикально, и я, утратив свою ящеричью цепкость, съехал к первому иллюминатору. Женщина в белой блузке машинально кивала, разглядывая свои пальцы. Я увидел, как она подколупнула ногтем чешуйку лака на ногте другой руки…
Их шаги прозвучали теперь в обратной последовательности: цоканье по палубе, барабанная дробь по мосткам, чавканье мокрой глины. Не глядя на меня, Пашка перемахнул через борт нашей лодки на полузатонувший понтон, с него на дебаркадер. Я следовал за ним ватными прыжками тряпичной куклы.
Выбравшись на берег, он сел, разулся и, засучив штаны до колен, вошел в воду, раздвигая высокие камыши. Разогнал ряску и долго умывался с довольным фырканьем, которое издали можно было принять за скорбные всхлипы.
Для нее это был великий день. В этот июньский вечер она собиралась впервые в жизни отдаться одному из своих юных приятелей, этих танцоров, толкущихся на площадке Веселой горки.
Она была худенькая, лицо – самое обыкновенное, из тех, мимо которых проходишь, не обращая внимания. Бледно-рыжий оттенок ее волос можно было заметить только при дневном свете. Под прожекторами Горки или в голубоватом ореоле фонарей она казалась просто блондинкой.
Об этой любовной практике я узнал всего несколько дней назад. В муравьином кишении танцплощадки возникали завихрения – группы подростков кучнились, подначивая друг друга, и удалялись роем, чтобы пройти посвящение в то, что казалось мне то до глупости простым, то сказочно таинственным и глубоким: в любовь.
Она, должно быть, оказалась лишней в одной из таких компаний. Вместе с остальными она пила украдкой в кустах, покрывавших склоны Горки. Потом, когда их возбужденный кружок разбился на пары, осталась одна – по простой арифметической случайности ей не досталось партнера. Парочки исчезли. Ее начинал одолевать хмель. С непривычки она выпила лишнего – из добросовестности, и чтобы не ударить в грязь лицом, и еще потому, что хотела преодолеть боязнь этого великого дня… Она вернулась на площадку, не зная, что теперь делать со своим телом, каждую клеточку которого пропитывало нетерпеливое возбуждение. Но там уже гасили прожекторы.
Обо всем этом я догадался позже… В тот вечер я увидел просто девчонку, которая в уголке ночного парка бродила кругами в мертвенном световом пятне фонаря. Словно ночная бабочка вокруг огня. Ее походка удивила меня: она шла как по канату, ступая воздушно и вместе с тем скованно. Я понял, что каждым шажком она борется с опьянением. На лице ее застыло напряженное выражение. Всем своим существом она сосредоточилась на одном-единственном усилии – не упасть, не дать никому ничего заподозрить, шагать по этому световому кругу, пока черные деревья не перестанут нырять, прыгать у нее перед глазами, размахивая гудящими ветками.
Я направился к ней. Вошел в голубой круг фонаря. Ее тело (черная юбка, светлая блузка) вдруг сконцентрировало в себе все мое желание. Да, она мгновенно стала той самой женщиной, которую я всегда желал. Несмотря на ее полуобморочную слабость, на пьяную расплывчатость черт, несмотря на все, что в ее лице и теле должно было мне не нравиться, хотя сейчас казалось таким прекрасным.
В своем круговом движении она наткнулась на меня и подняла глаза. Я увидел, как сменялись маски на ее лице – испуг, злость, улыбка. Перевесила улыбка – расплывчатая, словно обращенная не ко мне. Она взяла меня под руку. Мы стали спускаться с Горки.
Сперва она говорила без умолку. Ее юный пьяный голос никак не удерживался в одной тональности. Он срывался то на шепот, то почти на крик. Уцепившись за мой локоть, она иногда спотыкалась и всякий раз при этом, выругавшись, с кокетливой поспешностью зажимала себе рот ладошкой. Или вдруг оскорбленно вырывала у меня руку, чтобы в следующий же миг припасть к моему плечу. Я догадывался, что моя спутница сейчас разыгрывает давным-давно заготовленную любовную комедию – сцену, которая должна доказать партнеру, что она «не какая-нибудь». Но спьяну она путала порядок действий. А я, никуда не годный актер, хранил молчание, захваченный этим женским присутствием, неожиданно таким доступным, а главное – завораживающей легкостью, с какой это тело готово было мне отдаться. Я всегда думал, что этому дару будет предшествовать долгое сентиментальное вступление – тысячи слов, замысловатый флирт. Я молчал, чувствуя, как прижимается к моему предплечью маленькая женская грудь. А моя ночная подружка заплетающимся языком отвергала авансы чересчур предприимчивого фантома, надувала губки, показывая, что обижена, потом обволакивала воображаемого любовника взглядом, который считала сладострастным, тогда как он был просто мутным от вина и возбуждения.
Я повел ее в единственное место, которое могло послужить нам приютом любви, – на тот плавучий остров, где в начале лета мы с Пашкой подглядывали за проституткой и солдатами.
В темноте я, по-видимому, ошибся направлением. После долгого блуждания среди спящих кораблей мы остановились на чем-то вроде заброшенного парома, поломанные перила которого свешивались в воду.
Она вдруг замолчала. Должно быть, хмель у нее понемногу выветривался. Я был нем и недвижим перед этим ее напряженным ожиданием во тьме. Я не знал, что надо делать. Опустившись на колени, я принялся ощупывать доски, сбрасывая в воду то моток заплесневелых веревок, то пучок сухих водорослей. По чистой случайности в ходе уборки я задел ее ногу. От прикосновения моих пальцев по коже ее пробежала дрожь…
Она оставалась безмолвной до самого конца. С закрытыми глазами она казалась отсутствующей, покинувшей на мою милость свое мелко вздрагивающее тело… Должно быть, я по своей торопливости сделал ей очень больно. Это свершение, о котором я столько мечтал, расплылось во множестве неуклюжих, путаных манипуляций. Любовь, говоря по правде, оказалась похожа на поспешный, нервный обыск. Колени, локти торчали анатомически непривычными изломами.