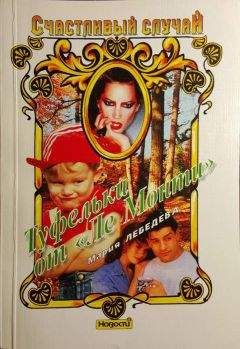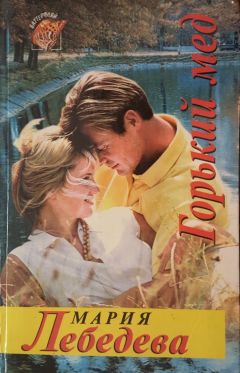Там темно - Лебедева Мария
Яся не сможет узнать: этот фокус любил и отец. Узнала бы – отучилась.
Это было так напряжённо: любой поступивший звонок мог значить – мол, встречайте, скоро буду, ура, все дела. Яся знала: он может приехать в любой момент, и дом сразу же перестанет быть домом. Не отец в гостях, а Яся.
Они жили вдвоём – Яся с мамой, – но заявлялся отец, и Яся как будто переставала быть собой, а становилась метафорой, смыслом, доказательством, что иногда мужья уезжают от жён и заделывают ребёнка где-то на стороне. Яся делалась сразу не Яся, а «смотрите, у этих двоих что-то было, вылепившееся в итоге формой прямо как человек».
Его приезд никогда не был похож на праздник, скорее, на те разы, когда в школу пришёл кто-то важный, и все рассуетились, пооткрывали запасники и рассовывают по уборным ценное жидкое мыло, бумажные полотенца и прочие знаки достатка. И нарядная директриса, и тот важный, который приехал, и первоклашки, которым доверили прочитать стихи на визит, – все знают, что выдохнут лишь когда, наконец, прекратится утомительный карнавал.
Ясе не нравилось ни это, ни вся поднимавшаяся канитель – смутное чувство тревоги, когда приходят чужие. Дальше и вовсе творилась какая-то чертовщина: всё, что было в квартире, становилось его и прислуживало ему.
Мир почему-то крутился вокруг этого высокого худого мужчины, который и прямо смотреть не умеет, то и дело отводит глаза, и – также не глядя – то достаёт неловкие свои подарки, то задаёт вопросы про вещи, которые, как он, видно, считает, должны вызывать интерес.
Стены точно бы растворялись. Дом больше не был защитой. Нужно было быть начеку, как во всём остальном пространстве. Отец заполнял собой каждую трещинку в стенах и выбоину плинтусов, его негромкий голос звучал отовсюду, его запах оставался даже на полотенце для рук. Яся, унюхав, сердито шмыгала носом и вытирала ладонь о штаны.
Он повсюду стоял, аромат того дымного одеколона, и Яся потом проветривала долго и зло, высунув нос в холодный прямоугольник форточки – окна выходили на дорогу, и шум едущих автомобилей врывался столь же внезапно, как ветер, и удушливый воздух проспекта казался таким долгожданным.
Одеколон был тёплый, тревожный. Как будто бы что-то сгорело. Или как если растереть между пальцев слёзку застывшей смолы.
Она начинала чувствовать этот запах чуть ли не за несколько дней до отцова звонка.
Время, когда отец был у них, не подходило реальности.
Мамины мягкие кофты сменяли гладкие платья, холодные, плотные, точно фольга, в такие уткнуться – как будто прижаться к окну, колкой вышивкой лоб оцарапать, рот открыть – так случайно наесться волос, глаз зажмурить – какая-то брошь попадёт (а, отец подарил, и к приезду отца – демонстрировать все подарки, про которые в другой день не вспоминали).
Дома мама обычно скалывала кудри пластмассовой заколкой-крабом: скручивала в жгут, закрепляла на затылке. Когда отец приезжал, она их распускала – длинные, с рыжиной, загибавшиеся к концам, – а заколку роняла на комоде в прихожей. Краб там лежал и как будто кусался. Это он, озверев, впивался клешнями в Ясин желудок: сковывало и тянуло, и отпускало, как только заколка возвращалась на мамину голову. Но стоило глянуть на зеркало – нет, лежит себе и пылится, вроде даже не помышляет напасть на чей-либо живот.
Иногда доставала из зубьев в них запутавшиеся волоски. Распихивала по отцовым карманам, не до конца понимая зачем. Как будто такой оберег. Как будто бы обезвредить. Как будто присвоить. Яся не знает. Яся просто ребёнок, чего от неё ожидать, сложных ведьмовских ритуалов?
Яся знала его как историю об отце и предпочла, чтобы ею и оставался. Но история с редким упорством обретала и запах, и кости, и плоть, и стучалась хозяйски в дверь малюсенького жилища.
Он в твоём городе, он на пороге, он сейчас же возьмёт и войдёт, и никто его не остановит – напротив, попросят прийти.
Обычно отец избегал прямого взгляда в глаза, и Яся старалась смотреть на металлический наконечник ручки, вечно блестевший в верхнем кармане. Яся не понимала, как ручка ни разу не протекла, и на рубашке под пиджаком не расплылось пятно синее, липкое. Как и ни разу не замечала, чтоб отец что-нибудь записал, и потому почти убедила себя, что это накладка, как виниры или шиньон, что ручка не для письма, а какой-то нагрудный знак, обозначивший принадлежность к лиге подобных ему.
Исследуя как-то брошенный в кресло пиджак, Яся выудила её из кармана, чтобы проверить, пишет или нет, и отец застал с этой ручкой, решил, будто Яся в восторге, отдал ей поиграть. Яся при нём исписала листок неприличными словами, плотно, по кругу, как будто на принт, и с суровым лицом протянула – смотри. Отец произнёс имена каких-то великих, которые делали так (ну, почти), и для Яси те имена не значили ничего, и наигранно расхохотался, как делал часто, когда оставался с ней. Может быть, лишь для того, чтобы был повод задрать подбородок.
Уже за полночь мама с отцом оставались на кухне вдвоём, а Яся вертелась без сна. Как ни старались сделать потише свои голоса, всё равно ощущение было, будто стоят прям над ухом, и до Яси доносились обрывки каких-нибудь разговоров. Взрослых и неинтересных.
Он жаловался на работу, на начальство, которое его не ценит, на то, что кто-нибудь из коллег сумел выбить классную командировку, что кого-нибудь пригласили в зарубежный университет – только вот никогда не его. Мама в ответ делала то, что велели другим, всяким пра и прапра, незримо стоящим за её спиной: делай по-умному, вдохновляй, верь и выслушивай.
Любовь была тишиной, окружавшей его, когда вокруг было слишком уж громко. Чего стоила та тишина?
Отец жаловался монотонно, убаюкивал нудежом.
Часто сон становился сильнее, и она засыпала под этот дуэт голосов. Засыпая, Яся думала: она, случись что, ныть не будет, не нужно тревожить маму.
Мама давала советы, а он, хотя и не видно, как будто нетерпеливо махал рукой – много ты понимаешь.
Ясе от этого всякий раз больновато, и казалось, что надо что-нибудь сделать. Яся не думала вовсе о том, что вдруг только на этой кухне отец и может так делать, а если б подозревала – разозлилась бы ещё сильней: то есть с другими ты, папа, нормальный, а нам несёшь эту хрень.
Временами тянуло встать и вмешаться. Иногда всё же вставала.
Как в тот раз. Когда слышно: на кухне привычно стараются не повышать голосов, но тревога ползёт плинтусами, подкапывает из розеток, затекает под дверь вместе с жидким кухонным светом.
Яся идёт на кухню. Как есть сонная, в одеяле, босые ноги липнут к линолеуму, на котором нет ни соринки. Тяжёлое одеяло прибавляет фигурке хоть какой-нибудь вес.
– Зачем ты приезжаешь? – говорит устало бледному и чужому, и мамины прозрачные глаза расширяются, и мама уже открывает рот, а отец то ли и впрямь не расслышал, то ли пытается сделать вид, что ничего не происходит.
Отцу бы над ней посмеяться, ему бы её успокоить, ему бы уже что угодно – не делает ничего. Яся говорит:
– Я попить взять. – Наливает воды в стакан и смотрит – вода в том кувшине подёрнулась сверху какой-то едва различимой дрянью, как ряской, и вся эта гадость дрожит, но раз уж взялась пить, то зачем уж теперь возникать. Зубы звякают о стакан. Горло считает глотки, напрягаясь, противный разорванный звук.
Кто-то мирно говорит маминым ртом:
– Да чаёк бы поставила.
Кто-то так дружелюбно ей вторит:
– Я бы тоже не отказался.
Будто ниточки потянули – и спектакль сам дальше пошёл.
Краб царапает в животе, полном холодной воды, точно плещется на мелководье.
Краб царапает и сейчас.
Вот табличка, на ней треугольник висит основанием вниз. Это женщина-треугольник – платье или широкие бёдра. Как же тут не узнать. Если вдруг основанием вверх – то мужчина. У таких треугольников – плечи атлета, бёдра сходят на нет и отсутствует шея: шар головы повис в пустоте. Сразу понятно, что это мужчина.