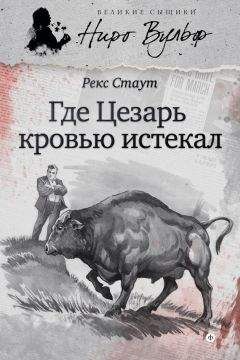Робер Сабатье - Шведские спички
Оливье веселился до упаду. Рядом с друзьями он забывал обо всех своих несчастьях. Они стянули раскрашенный звездочками мячик у маленькой Нана, которая играла, бросая его об стенку и выполняя все требующиеся «коленца» — часть первая, легкий удар, сильный удар, маленькая спираль, большая спираль, под одну ножку, под другую ножку, молча, без шуток… — и стали гонять мячик из рук в руки, а потом запустили его вниз по улице, заставив девчонку бежать вслед, грозить кулачком и пронзительно кричать: «Банда кретинов!»
На улице Ламбер другие девчонки прыгали через скакалку и напевали:
Пале-Ройяль — прекрасный квартал.
Девушки там на выданье все.
«Я женюсь на вас», — однажды сказал
Милой Ивонне… мсье Оливье!
И вдруг Капдевер завопил:
— Ой не так, девочки! Оливье ведь влюблен в Принцессу, да-да, в эту здоровенную жердь с волосами из пакли!
Взбешенный Оливье смерил его взглядом и отпихнул. Они искоса посматривали друг на дружку, слегка задирались, но никто не решался ввязаться в драку.
— А ну откажись от своих слов!
— Еще чего!
Как коты, стояли они друг против друга и шипели, потом более добродушный Лулу разнял их: «Идите, ребята, идите отсюда…» День не годился для драки.
На улице Лаба, прислонившись к полированной двери галантерейной лавки, стоял Паук — своими изуродованными ногами и культями рук, разведенными в стороны, он напоминал огромную летучую мышь, замершую на воротах деревенской фермы.
Галантерейная лавочка, по-прежнему запертая, выглядела нелепо на этой оживленной улице. В дверные щели набилась пыль, дерево было исчеркано мелом, даже собаки останавливались тут поднять лапу — все приходило в упадок. Легко было представить себе там, за ставнями, это замурованное пространство, ставшее бесполезным и никому не нужным. Чтоб привести в порядок наследственные дела, родственники ожидали семейного совета, а он все время откладывался, ибо друг к другу все относились недоверчиво. Как-то при ребенке произнесли слово «опекун», но ему подумалось, что оно означает что-то вроде подпорки для розовых кустов или для стеблей фасоли. Порой какие-то образы прежней жизни снова возникали в его памяти; знакомый стол, буфет, горка со сверкающей посудой, швейная зингеровская машина, его кроватка, бесчисленные ящички для галантерейных товаров. Как, наверное, резвятся сейчас мыши среди всех этих сокровищ! А вещи спят беспробудным сном, как в зачарованном замке спящей красавицы. Потом перед мальчиком появлялся призрак Виржини, запертой там, за ставнями: Виржини лежала на смертном одре, ее рука была бессильно откинута в сторону.
А тут еще этот Паук, недвижимый, как верный страж.
Дети, все трое, подошли, вынюхивая, чем бы им позабавиться.
— А ну, парни, — насмешливо сказал Капдевер, — прицельтесь-ка в Паука.
Лулу и Оливье с возмущением переглянулись. Издеваться над калекой, на виду у всей улицы? Нет, так не поступают. Люди обычно ограничивались тем, что старались не замечать его убожества. Можно было подшутить над таким, как Люсьен Заика, над каким-нибудь глухим или горбатым человеком, но не измываться же над Пауком — ведь его и так уже горько обидела судьба. Лулу разворошил свою лохматую черную шевелюру, которая резко контрастировала со светлыми кудрями Оливье, и нанес Капдеверу крепкий удар кулаком в плечо.
— Ты что, обалдел, а? Синяк же будет!
Но Лулу уже угрожал «навесить ему фонарь», чтоб и под глазом остался огромный синяк. А Оливье прибавил:
— Паук — мой приятель.
— Ах! Ах! Скажите пожалуйста! — заорал Капдевер. — Паук — твой приятель, а Принцесса — твоя подружка… — И он сплюнул себе под ноги, подтянул штаны и удалился, покачивая головой и ужасно гримасничая.
— Вот уж настоящий полицейский сынок, — сказал Лулу.
— Ничего, это у него скоро пройдет… — ответил Оливье.
Мальчики вежливо поздоровались с мадам Одуар, которая на свои уже сильно поредевшие волосы все-таки ухитрялась накрутить бигуди. По пути они приласкали рыжую собаку Альбертины и поманили ее несуществующим сахарком, чтоб она постояла на задних лапах.
— А что, если поговорить с Пауком? — спросил Лулу.
— Ты что, очумел? — сказал Оливье.
— Глупости! Сейчас увидишь!
Лулу подошел к Пауку и сказал:
— Добрый день, мсье!
Калека ответил не сразу. Его застывшие в полной неподвижности конечности вдруг шевельнулись, а глаза приоткрылись — они показались ребятам бездонными. Он посмотрел на детей и ответил своим усталым голосом:
— Привет, Серж. Привет, Оливье.
— Ну и ну! — воскликнул Лулу. — Вы знаете, как меня зовут?
Паук улыбнулся и уточнил, желая рассеять сомнения:
— Да, знаю, ты Серж, а для друзей — Лулу, так они тебя называют.
Оба мальчика стояли рядом, не находя слов. Им хотелось выглядеть любезней, и, переступая с ноги на ногу, они переглядывались, подзадоривая друг дружку начать разговор. Наконец Оливье рискнул, проронив:
— Как вы себя чувствуете?
Калека ответил:
— Неплохо, — а потом движением подбородка указал на карман своей синей куртки: — Там внутри сигарета. Не можешь ли сунуть ее мне в рот?.. Да еще огоньку бы.
Оливье залез в карман Паука, вытащил смятую сигарету и старательно выпрямил. Потом вставил ее в рот Пауку и с гордостью вынул из своего кармана коробок шведских спичек. Паук поблагодарил и с наслаждением затянулся, откинув голову, чтоб дым не ел ему глаза.
Движением губ он отодвинул сигарету в уголок рта и, как бы принося извинение, сказал:
— А меня зовут Даниэль.
Лулу и Оливье не могли скрыть своего удивления — они уже так свыклись с тем, что все зовут калеку Пауком, что даже не могли и предполагать, что у него, как у всех людей, есть имя. И Лулу глупо пролепетал:
— Рад знакомству!
Оливье улыбнулся и мягко повторил:
— Даниэль… Даниэль…
После томительной паузы последовало прощание: «Ну ладно, всего хорошего…» — и дети смущенно удалились, а Даниэль-Паук потряс подбородком, чтоб сбросить пепел своей сигареты.
Но на улице сценки быстро сменяли одна другую. А вот и мадам Папа; ее маленькое, как у полевой мышки, лицо совершенно исчезло под украшенной вишнями большой шляпой, зонтик со стеклянной круглой ручкой свисал с локтя; в руках она несла тесто, завернутое в кухонное полотенце, чтоб булочник испек ей пирог. По дороге она без конца останавливалась, желая каждому встречному разъяснить: «Завтра приедет малыш, мой малыш явится…»
Эрнест, усатый хозяин кафе «Трансатлантик», пускал струю из сифона в двух «слепившихся», смешно передвигающихся собачонок. Туджурьян с третьего этажа сбросил в конверте водяную бомбу, гулко взорвавшуюся перед привратницей из дома номер 78, мадам Громаляр, которая страшно обозлилась и погрозила кулаком в небо. В другом окне Джек, младший сын портного, пытался поймать карманным зеркальцем солнечный луч и направить его прямо в лицо прачке, живущей напротив. Мальчишка с длинными, как у девчонки, волосами, объедал куриную ножку, с треском раздирая ее сухожилия.
Взглядом знатоков Оливье и Лулу обозревали эти привычные сценки и переглядывались, чтоб выяснить отношение друг друга к тому или иному событию. Под лучами заходящего солнца крыши домов становились сиреневыми; знойный воздух, казалось, дрожал и струился; сновали мухи… Лулу по-своему выразил то, что чувствовал:
— Красотища на улице!
— Да, здорово! — как эхо, откликнулся Оливье.
Они опять внимательно огляделись кругом, словно пенсионеры, вышедшие на прогулку. Все уже дышало иным ритмом — вечерним. В горшке на подоконнике у мадам Альбертины ярко цвели настурции. Прошла девушка в платье с зелеными разводами, лицо ее было таким юным и чистым. В одной из квартир дома номер 75, старательно подражая голосу Жозефины Беккер, какой-то мужчина напевал: «У меня две любви». Из окна мадам Шаминьон капала вода — она поливала цветы. Люди уже возвращались с работы.