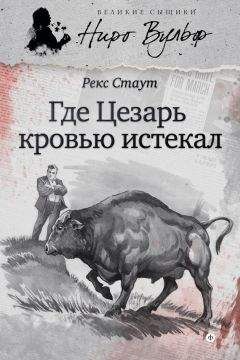Робер Сабатье - Шведские спички
— У тебя что, голова мерзнет? Ты не думаешь снять шляпу?
И так как он лишь надвинул шляпу на лоб, все еще противно улыбаясь и продолжая смотреть на Мадо, она, склонив голову набок, смерила его взглядом и сказала властным тоном, изменившим ее приятный голос:
— Слушай-ка, парень, хоть что-то и было между нами — ты знаешь, о чем я говорю, — но нечего думать, что ты у себя дома. Придешь, когда я тебя приглашу, понял? И я буду принимать у себя, кого захочу. Договорились?
Мак казался смущенным. Она была такая же сильная, как и он, и с этим приходилось считаться. Красавчик пожал плечами, щелчком сбросил шляпу с головы на ковер и оставил ее там лежать.
Мадо, едва улыбнувшись, продолжила:
— Хочу познакомить тебя с Оливье. Ты, наверное, знаешь его — это сын красивой галантерейщицы. Впрочем, что я говорю… был…
Мак уселся на пуф напротив Оливье и пристально смотрел на мальчика. Ребенок решил не отворачиваться. Сжав губы, прищурившись и вытянув вперед подбородок, он ждал, что будет дальше.
— Несчастный шпингалет, — сказал Мак, — любой балбес из нашего квартала лупит его, сколько влезет.
— Если б я только захотел… — пробормотал сквозь зубы Оливье.
На тарелке оставалось еще одно пирожное «мокко» в форме кубика, посыпанное крошками миндаля. Мак забавлялся тем, что давил его ложкой и поливал сверху чаем. Мадо кивком указала на него Оливье:
— Видал этого «милого отрока»? Сама злость в чистом виде!
Это заставило Мака расхохотаться. Потом он принял рассеянный вид, бросил на ковер рядом со шляпой свой пиджак, потянулся, поиграл мускулами и, к удивлению ребенка, вытащил из кармана скакалку с двумя ручками, крашенными в красную полоску, точь-в-точь как у девчонок; Оливье испугался, что он хочет этой скакалкой выдрать его, но Мак отошел, занес скакалку назад и, опустив ее ниже колен, принялся прыгать то на одной, то на другой ноге с бешеной резвостью.
— Он полагает, что находится в гимнастическом зале! — воскликнула Мадо.
Она взяла мальчика за руку, слегка пригладила ему волосы и сказала, что пора идти. Мадо проводила Оливье до дверей, в то время как Мак все еще продолжал в неистовом темпе свои прыжки. На прощанье она поцеловала ребенка в лоб.
— Ну что, вкусные были пирожные?
— О, конечно!
— Ты еще придешь ко мне полакомиться?
— Спасибо, спасибо! — повторил Оливье, охваченный бурным восторгом. — Спасибо! До свиданья, мадам!
— Нет, — Мадо.
— До свиданья, мад… Мадо.
Он неподвижно простоял несколько минут на лестничной площадке после того, как она затворила за ним дверь, не потому, что хотел подслушать, просто вдыхал запах ее духов. И услышал, что Мак повторил, подражая Мадо: «Этот милый отрок, этот отрок — да он сама злость в чистом виде!.. — а затем добавил обычным голосом: — Я тебя научу быть вежливой!»
Оливье показалось, что у них началась ссора, но Мадо засмеялась. А потом все стихло.
Мальчик сжал кулаки. Очевидно, он сильно ненавидел этого Мака и потому сказал вслух: «Когда вырасту, я разобью его грязную харю!» Впрочем, все это было не так уж важно, и Оливье сбежал вниз по лестнице в самом лучшем расположении духа.
*Вернувшись с работы, Жан обычно одевался по-домашнему: натягивал легкую рубашку, полотняные голубые брюки на помочах, ноги совал в шлепанцы на веревочной подошве. За ужином он рассказывал, как прошел день в типографии. С неистощимым остроумием описывал он своих товарищей по мастерской — печатников, бумагорезчиков, мастеров и служащих конторы («Такие уж воображалы»), или же перечислял различные неприятности: неудачную приправку, рассыпавшийся набор, грязное тиснение на бланках, плохое качество цветной печати, скверное настроение старшего мастера. Иной раз кузен приносил домой рекламные проспекты туристских путешествий с изображением поездов или пароходов, плывущих по синему морю, и Оливье эти картинки вырезал. Элоди всегда охотно слушала технические объяснения мужа, хотя ничего в них не понимала, и с восхищением глядела на Жана.
Все это нравилось Оливье. Особенно, когда Жан рассказывал о подмастерьях: как он обучал их вкладывать в машину листы бумаги, желая хоть немного скрасить им скуку прочих работ, которые они так ненавидели, — уборку цеха, выравнивание бумаги в столах, мытье керосином каучуковых, жирных от краски валиков… Любимым развлечением машинного мастера было обычное издевательство над новичком: «Тебе бы хотелось поиграть на кларнете?» И если ученик, еще не знавший, в чем дело, отвечал утвердительно, его ошарашивали: «Тогда бери бидон с керосином и вымой машину!»
После этого полагалось подвигать пальцами над воображаемым кларнетом, чтобы новичок понял шутку. В мастерской было еще много таких розыгрышей и масса смешных профессиональных словечек, очень забавлявших Оливье. Мальчик расспрашивал, сколько лет подмастерьям, и думал, что через три или четыре года и он научится печатать эти красивые проспекты.
В сущности, все трое — Жан, Элоди и ребенок — хорошо уживались друг с другом. Хотя Оливье и не получил религиозного воспитания, он все же порой обращался к неведомому ему богу: «Сделай, чтоб я с ними остался. Сделай, чтоб я с ними остался». Не только из-за того, что он любил их, но здесь он чувствовал себя ближе к галантерейной лавке, а также к самой Виржини; ему мерещилось, что еще может произойти какое-то чудо. Думы о матери по-прежнему преследовали его, но ночные кошмары начали отступать, и он уже реже плакал. Наверное, еще и потому, что Оливье так долго бродил по улицам, он, едва добравшись до постели, засыпал тяжким сном. Жану вечерами хотелось побыть наедине с женой, и он позволял Оливье гулять допоздна — ведь и улица была чем-то вроде двора, и кузен не думал, что с ребенком могло что-то случиться. Однако он считал своей обязанностью по временам ворчать:
— Если ты и дальше останешься с нами, поверь, так больше не будет, нет!
— Как я справлюсь с таким чертенком? Да ведь это же озорник, озорник, озорник! — добавляла Элоди без особой злости и раздражения, как будто сообщала о том, что всем давно известно.
С недавнего времени Оливье начал частенько разглядывать себя в зеркале, подымаясь на цыпочки, чтобы казаться повыше, надевал свои парадные гольфы уже не только по воскресеньям, чистил себе одежду, обувь, украдкой от Элоди пользовался тем самым, что «чудно пахнет», иногда брал «напрокат» у Жана какой-нибудь старый галстук. Чаепитие у Мадо не прошло для него бесследно.
—Ты глянь, как он теперь держит свою чашку, этот кривляка, — заметила Элоди.
В течение нескольких дней подряд мальчишка пытался утихомирить свою кудрявую челку, с раздражением приговаривая:
— Ах! Эти волосы…
Жан наконец понял и послал его к парикмахеру на улице Кюстин, рекомендовав фасон «полубокс» — стрижку, освобождавшую от волос виски и затылок и оставлявшую спереди только короткий ежик, разделенный пробором.
У парикмахера еще висела над дверью старинная вывеска: медный шарик, с которого свешивалась коса, сплетенная из черного конского волоса. Из деловых соображений было добавлено: Быстро и хорошо. Оливье пропустил мимо ушей совет насчет «полубокса». Он дал усадить себя на два телефонных справочника и покорно предоставил свою голову во власть мастера, который без всяких церемоний принялся вертеть ею, хотя Оливье и пытался иногда что-то предупредить, но — увы! Едва он наклонял вперед голову, парикмахер тащил ее назад с ворчаньем: «Перестань же ты крутиться!» Ножницы летали над ним, словно ударом клюва отхватывая светлые пряди, тут же оседавшие на пол, как пар. Трещала машинка для стрижки, под конец выдернувшая у него еще несколько волосков, и мальчик шептал про себя тихо-тихо: «Спасайся! Ой, спасайся!» От парикмахера, ливанца со смуглым и жирным лицом, пахло потом. Из-под рукавов виднелись толстые волосатые руки. Он что-то говорил о предстоящих гонках «Тур де Франс» с худощавым молодым человеком, которого его коллега брил, мыл, натирал квасцовым камнем, пошлепывал по щекам горячими салфетками и поливал туалетной водой Горлье, причем у каждого был свой прогноз: один сулил первое место Ди Пако, другой — Роже Ледюку.