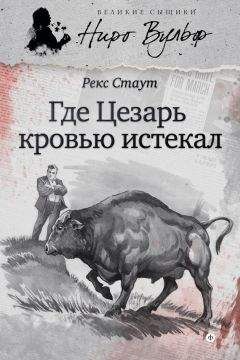Робер Сабатье - Шведские спички
— Вот туда-то тебе и надо отправиться! — рявкнул Бугра.
В эту наивно нарисованную ребенком картину Бугра добавил кое-какие свои краски, заново придумывая ему дедушку с бабушкой, используя собственные воспоминания о детстве, или примешивая черты персонажей из романов Золя, или приписывая им всякие подвиги в традиционном духе «кузнецов мира».
Расхваливая деревню, он пользовался эпическим стилем и воздвиг перед Оливье широкое полотно, заполненное стогами сена, тачками с навозом, жирными гусями, пузатыми коровами, дворами ферм и шумными рынками, браконьерством и широким гостеприимством, краснощекими девушками и парнями, отлично танцующими бурре. Всякий раз, когда Бугра встречал Оливье, он снова пририсовывал что-нибудь к этой сельской картине: походы за грибами, облавы на кабанов, охоту на птиц, ловлю раков маленькой сетью, похожей на карман, приваживанье лягушек на приманку — красную тряпку, сбор диких слив; Бугра вспоминал запах прелых осенних листьев, описывал, как чистят скребницей коня, рассказывал о сельских пикниках.
Оливье слушал Бугра с восхищением, хотя не очень-то верил ему — многое в этих повествованиях казалось преувеличенным и походило на сказки. Бугра принадлежал к той породе людей, что, покинув родные места, долго не могут утешиться, но тем не менее ни за что на свете не бросят своей простенькой городской улочки, в которую уже вцепились, как виноградная лоза.
Напоминание о семье, так хорошо обосновавшейся в этих чудесных местах, на какое-то время вызволило мальчика из его одиночества, но все же он вздохнул и загадал, идя вдоль тротуара: «Если до конца улицы меньше пятидесяти шагов, значит, я останусь жить у Жана!»
Он уже привык ходить к Бугра и болтать с ним — старик всегда охотно принимал его, придумывая для мальчика целые миры, о которых он сам постоянно мечтал. В отличие от воинственного Гастуне, Бугра был нем «насчет войны». Он дал себе зарок никогда о ней не говорить. Бугра жил настоящим, превращая монетки в кучу колец и заставляя оплачивать их красным вином, которое он пил из солдатской кружки, макая в него громадные куски хлебного мякиша, тут же исчезавшего меж толстых губ, с которых стекали капли вина на его бороду Вакха. Бугра протягивал маленький стаканчик мальчику, и они чокались, обмениваясь восклицаниями вроде: «За твое здоровье и не бей посуду!» или же: «Не теряйся, всегда найдется компания».
Оливье шлифовал кольца, натирая их замшей, и слушал, как его старый друг поет грубым, глухим голосом «Песню тополей», «Цветок гречихи» или «Друзья, мне стукнуло сто лет!». Приятели затрагивали в оживленной беседе множество тем, и в некотором отношении ребенок познавал много больше, чем если бы решал нелепые арифметические задачки, с их глупыми бассейнами, в которых одновременно открывают и кран и сток, или с идущими навстречу друг другу поездами, или с людьми, которые составляют себе капитал, получая прибыли в размере пяти процентов.
Как-то раз, когда они оба сидели, облокотившись о подоконник, мимо прошла Принцесса Мадо со своими двумя собачками, в платье с цветами и вырезом на спине, подмазанная, напудренная, в лиловом берете, наполовину скрывавшем ее светлые волосы. К удивлению ребенка, Бугра пожал плечами и раздраженно сказал:
— Ну, в путь-дорожку прямиком к Мадлен!
Если б Оливье понял, о чем речь, ему стало бы грустно, но мальчик счел, что фраза эта относится к имени Принцессы, а вовсе не к известной в столице площади, вблизи которой, по облыжным обвинениям некоторых людей, Мадо якобы занималась кое-какими несовместимыми с общепринятой моралью делишками.
*В последующие дни ребенок встречал и других людей, но лишь одна из встреч оставила за собой аромат приключения.
С утра он, глазея по сторонам, долго бродил по кварталу, шел по улице Эрмель, по бульвару Орнано, где театрик «Фантазио» рекламировал спектакли для детей, по улице Маркаде, мимо расположенного на ней кинематографа, пересекал площадь Жюль Жоффрен, где была мэрия, улицу Дюэм, Руа д'Альжер и возвращался, как обычно, назад к точке отправления.
Оливье попробовал поболтать с Альбертиной, но это был день стирки, и она его оборвала. Тогда он решил отправиться на улицу Ламбер в ту комнатенку, где проживал, трудился и боролся с жизнью его друг Люсьен Заика, который в своем всегдашнем растянутом и болтающемся на бедрах свитере и старых, порванных сандалиях стоял в окружении радиоприемников всевозможных размеров и марок, одновременно передававших в какой-то беспорядочной мешанине самые различные программы.
— Здорово, вот и ты, ста-ста-рик!
— Здравствуй, Люсьен, добрый день, мадам!
Молодая жена Люсьена была больна туберкулезом. Он называл ее болезнь «скоротечным процессом», но это переводилось в квартале на более понятные выражения, такие, как «чахнуть от чахотки» или «плеваться своими легкими». Она почти постоянно находилась в постели и обречена была расстаться с жизнью в этой пыльной и душной комнате, загроможденной сундуками, радиоприемниками и всяким рабочим инструментом. Здесь царил запах лекарств, жженой резины, перегревшихся радиоламп и ржавого металла. Люсьен отрывался от работы лишь для того, чтоб дать жене микстуру или сунуть своему грудному малышу соску, покрытую молочными пенками. Люсьен любил Оливье. Сколько бы ни высказывалось предположений по поводу смерти Виржини, для Люсьена не было никаких сомнений: конечно, она умерла от грудной болезни. Он не знал, от какой, но это сблизило его с маленьким светловолосым парнишкой, который время от времени навещал его и не был слишком болтлив.
Оливье наблюдал за работой приятеля. Тот крутил ручки настройки, надевал на ребенка наушники от уже устаревших теперь детекторных приемников, рассказывал ему о какой-нибудь песенке или мелодии, приговаривая, что у него дома весело «из-за всей этой музыки», размещал сложную систему антенн в шкафчиках, чтобы, по-разному отворяя их дверки, варьировать интенсивность звука, употреблял всевозможные технические термины вроде: супергетеродин, пробки секторов, катушки, фединг, заземление, избирательность и так далее.
К полудню очумевший от этой какофонии Оливье покинул своих друзей, пожав им на прощанье руки, и смущенно поглядев на малыша. Он поднимался к улице Лаба вдоль канавки, по которой сточные воды текли к канализационному люку. Рабочие несли на плечах блоки льда в кафе «Трансатлантик». Бугра бросал из окна хлебные крошки голубям. Чуть подальше стоял точильщик и жал ногой на педаль, запуская наждачное колесо, пристроенное на хлипком станочке, пробовал лезвия отточенных им ножей большим пальцем и время от времени позванивал колокольчиком, гнусаво выкрикивая: «Точить ножи, ножницы!» Оливье остановился рядом и, то и дело боязливо сторонясь брызжущих искр под надменным взглядом точильщика, смотрел, как он работает.
Мальчик мечтательно созерцал это зрелище, полностью уйдя в нею, как вдруг почувствовал на своем затылке чью-то нежную руку. И тут же узнал голос Мадо:
— Ты любишь пирожные, а? Хочешь? Тогда пойдем ко мне, будем есть.
Но Оливье все еще медлил и, сжав губы, смотрел на нее во все глаза.
— Ну пойдем же! Ты такой робкий? На-ка, неси этот пакет, ты ведь мужчина!
Она сунула ему в руки розовый пакет в форме пирамидки с традиционным бантиком на верхушке и посоветовала не прижимать ношу к себе. Мальчик шел по лестнице вслед за Мадо, вдыхая запах ее духов. На каждой площадке она оборачивалась и подбодряла его улыбкой. Оливье быстро прошмыгнул мимо двери на третьем этаже, где жили его кузены.