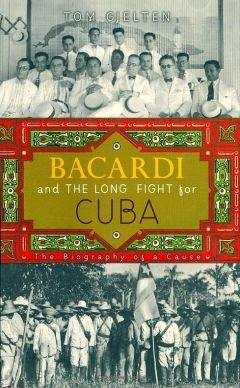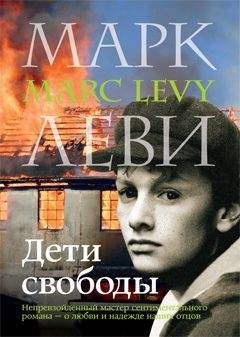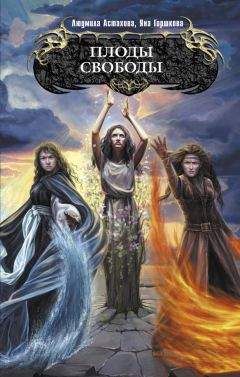Абилио Эстевес - Спящий мореплаватель
Однажды ночью Федрита подстерегла юношу в баре «У Энрике», зная, что пиво разгорячит его кровь и заставит отправиться к Мелине. Когда ближе к полуночи Федрита увидела, что он выходит, она пошла вперед и села на камень, лежавший (он лежит там до сих пор) у входа на кладбище. Место было темное и страшное, поэтому мимо никто не ходил. Хуан Милагро заметил сидящую на камне Федриту, прекрасное видение, не внушавшее страха. Или внушавшее приятный страх. Он сел рядом с ней. Она спросила его, не страшно ли ему на кладбище. Он ответил, что, как она наверняка знает, его дед был могильщиком и, кроме того, колдуном-няниго[62] и что мальчиком Хуан Милагро не раз проводил ночь без сна, сопровождая деда на поиски нужных человеческих костей. Она объяснила, что, хотя кладбища и внушают ей страх, она обожает гулять по ним ночью, и попросила его пойти вместе с ней, и он согласился, как и следовало ожидать, зная, что то, чего она хочет, не имеет никакого отношения к смерти. Первый поцелуй случился у подножия нелепой и пышной усыпальницы семьи Эстевес-Сан-Роман. Второй, еще более жаркий, у мавзолея масонской ложи. Наконец, они упали на плиты какой-то безымянной могилы. Она солгала, что девственница, он притворился, что поверил. Две недели спустя она любила его больше всего на свете, и он сделал вид, что любит ее, и они стали жить вместе в хибаре в Собачьем переулке.
Там-то и начались несчастья Хуана Милагро., Он был несчастлив оттого, что покинул дом на пляже, где ему было так хорошо, чтобы сожительствовать с женщиной, которую он не любил и которую, как и следовало ожидать, вскоре начал ненавидеть. И от этого чаще становились визиты к Мелине и ночные вылазки на пляж.
К тому же к этому времени Валерия превратилась в женщину. Для Хуана Милагро в «ту самую» женщину.
Не один год Хуан Милагро и Федрита жили вместе как чужие люди, которых насильно усадили за один стол и уложили в одну кровать. Ее тело не пробуждало в нем ни малейшего желания. Когда они ложились в кровать, он непременно выключал везде свет, а потом, на всякий случай, под предлогом того, что от угольной пыли у него щиплет глаза, смачивал в воде платок и повязывал его на веки. И только после этого он позволял, чтобы ее руки гладили его грудь и бедра.
И так было до первого октября того года, когда ожидался циклон. В то утро случилось два важных события. Вернувшись домой после ночи, проведенной в доме на пляже, он обнаружил повестку из военного комитета на кухонном столе, Федриты не было. Сначала он решил, что она ушла к родителям. Но насколько он мог судить, все вещи в шкафу были на месте. Он пошел к ее матери, которая жила на выезде из поселка, рядом с кинотеатром Суарес, и говорил с ней о всякой ерунде, не запомнив ни слова из разговора. Но о ее дочери они не говорили.
За несколько дней Хуан Милагро обошел и объездил поселок вдоль и поперек, как приезжий, как будто он впервые там оказался. Через каждые пять минут он возвращался домой проверить, не вернулась ли она, не оставила ли какого-нибудь знака. До поздней ночи он стоял на перекрестках. Смотрел, как с приходом ночи на улицах гаснут пунцовые всполохи заката. Как улицы постепенно пустеют и погружаются в тишину, тревожную, как запах ночного жасмина. Он шел на кладбище. Садился на камень у входа, как призрак, бегущий от других призраков. Он не любил ее, но он не хотел чувствовать себя виноватым.
— Вот почему меня не было все эти дни, — объяснил он. И рассказал Мамине, как он разыскивал Федриту, не разыскивая ее, притворяясь, что знает, где она, и поэтому он ее не ищет. — Федрита исчезла, мама, как под землю провалилась. И хуже всего, или лучше всего, что меня это не волнует, я скорее рад.
— А ее семья, они что-нибудь тебе сказали?
Хуан Милагро покачал головой:
— Они ничего не говорят, хотя кажется, что им есть что сказать, они мне не улыбаются, но и не обеспокоены. Как будто ждут известия, как будто они знают что-то, что и мне следовало бы знать, но о чем не следует говорить.
— Ты был в полиции?
Хуан Милагро посмотрел на старуху как на сумасшедшую. Она махнула рукой.
— Не обращай на меня внимания. — И положила ладонь себе на лоб. — Ты влюблен в другую? — спросила она без выражения, вороша горящие угли.
Мулат резко сдернул тряпку, скрывающую глаза чучела черепахи. Мамина повторила вопрос, на этот раз без всякой вопросительной интонации.
— Мама, я хочу спать.
Ей было больше девяноста лет, и она умела угадывать ответы за отговорками.
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ АМАЛИИ ГОДИНЕС
Она объявила об этом однажды утром 1960 года за тогда еще обильным завтраком. Она уедет с Кубы. Это окончательное, как она не преминула пояснить, решение было принято в тот день, когда она обнаружила, что не может купить английский джем даже в самой изысканной и известной кондитерской. Не говоря уже о том, что на ее туалетном столике неумолимо заканчивалась косметика бывшей медсестры (недаром настоящее имя канадки было Флоренс Найтингейл[63]), всемирно известной как Элизабет Арден.
Поэтому, по причине исчезновения английского джема и продукции великолепной Элизабет Арден, говорила Амалия Годинес с улыбкой, она намеревается бежать с Кубы.
А она никогда не говорила зря. Особенно если речь шла о чем-то, что могло принести ей выгоду.
После ее отъезда от нее пришло только три письма, бывшие, вероятнее всего, единственными, которые она написала. По крайней мере, и насколько было известно, единственными, которые она написала своей семье.
Первое, через семь месяцев после отъезда, было отправлено из Форт-Лодердейла[64] 6 мая 1962 года. По странному совпадению, которое, без сомнения, никак не волновало далекую от религии Амалию, как раз 6 мая того года папа Иоанн XXIII канонизировал святого Мартина де Порреса. В коротком письме, написанном ее аккуратным «палмеровским» почерком, который ей привили в Havana Business Academy[65], Амалия рассказывала, что они с Эразмо уже работают в небольшой, но «роскошной» (именно это слово она употребила) гостинице на берегу моря и что они уже сняли маленький и удобный домик с комнатой для ее «двух обожаемых крошек». «Двумя обожаемыми крошками» были ее дети, Валерия и Болтун, препорученные супружеской парой заботам Мамины, Андреа и Полковника до тех пор, пока они с мужем не устроятся в этой новой жизни, которой они собирались зажить.
Второе письмо пришло 24 января 1964 года и было отправлено из города под названием Ту-Харборс. Домашние не сразу смогли установить, что Ту-Харборс — это крошечный городок неподалеку от Дулута, Миннесота, на берегу озера Верхнего.
Это письмо было еще короче предыдущего, и в нем уже не было ни слова о крошках. На сложенном вдвое листе розовой бумаги с фирменным грифом как раз бумажной фабрики Амалия немногословно сообщала всего три новости: первая — что в Нью-Йорке она побывала на постановке «Хелло, Долли»! («Кэрол Чэннинг божественная и восхитительная», — отметила она); вторая — что они расстались с Эразмо: «несовместимость характеров, два таких разных человека с такими разными устремлениями не могли продолжать быть вместе»; третья — что она влюбилась «как Серена» (посмела написать Амалия) в высокого и обворожительного господина из Сидар-Рапидса, Айова, который чрезвычайно похож на Уильяма Холдена («я, как вы догадываетесь, чувствую себя Дженнифер Джонс»)[66]. И раз уж она вспомнила о Уильяме Холдене (и Дженнифер Джонс), она решила не подписывать письмо своим именем, а закончить его вместо подписи жизнерадостным названием фильма, который она видела двадцать лет назад и с тех пор обожала: «Любовь — самая великолепная вещь на свете!»
Третье письмо было получено три года спустя, в 1967 году. Дата на нем не была проставлена. (Валерия определит дату по штемпелю.) Но значилось место отправления: Пахрамп, Невада. Под непроизносимым названием города Амалия почему-то нарисовала горы и подписала: «Heart of the New Old West»[67]. Это третье письмо, последнее полученное дома от Амалии, было еще более немногословным, чем предыдущие. Она писала, что в свои тридцать два года чувствует, что «жила вполсилы». И добавляла: «Я многое испробовала, это правда, теперь мое единственное желание заменить слово «многое» на слово «все». Америка — это не страна, это что-то большее, великий и невероятный мюзикл, главной героиней которого я намерена стать. Папа, как ты был прав, какое преступление родиться на Кубе, когда на Севере, всего в девяноста милях от этого ничтожного острова в форме крокодила столько чудесных мест и самых разных замечательных городов! «Жизнь — это банкет, на котором одни наедаются, а другие остаются голодными»[68]. Письмо завершалось не как обычно, подписью или прощанием, а нарисованными губами и тремя словами, которые выражали больше, чем казалось на первый взгляд: «Peace and love»[69].