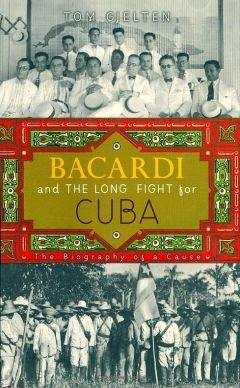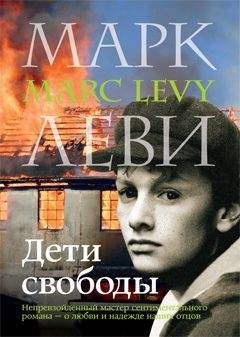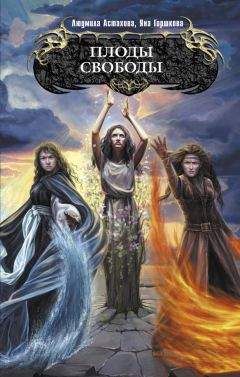Абилио Эстевес - Спящий мореплаватель
КОНЕЦ ГЛАВЫ
Валерия встанет в десять утра. Она не станет смотреть на часы. Утренний свет будет прекрасным и грустным. Никакой циклон не будет угрожать ее жизни. В ее новой жизни не будет места таким угрозам. Как и многим другим. Снег, наверное, идет всю ночь — неутомимый, равнодушный, монотонный и прекрасный. Она будет одна. Никто ее не обнимал этой ночью. Ее обрадует и опечалит снегопад, на который она будет смотреть так далеко от Гаваны и от своей прошлой жизни. Все, что ей будет видно из окна, выходящего на Риверсайд-Драйв, будет покрыто снегом, который укутал ели и повис на сухих ветвях деревьев, как сутана. И замерзший Гудзон будет занесен снегом.
Стоя у окна, Валерия будет меланхолично смотреть, как падает снег. Будучи натурой утонченной, она подумает: «Я чувствую себя как персонаж с гравюры Дюрера».
Так же меланхолично она стояла на террасе в грозовое октябрьское утро тридцать лет назад. Странным образом, скажет она себе, все, что происходит в будущем, уже имело место в прошлом. Бога нет. Но есть предсказания и предчувствия. Возможно, Бог и есть предчувствия и это странное свойство событий — повторяться.
«Сейчас я смотрю на снег, — напишет она, — как однажды смотрела на дождь перед циклоном».
И в обоих случаях ни снег, ни дождь ее не беспокоили. Ее беспокоило исчезновение. И без того некрасивый пляж показался ей еще более уродливым, когда она открыла дверь. Мария де Мегара прошла вперед, словно собираясь быть ей проводником. Коты, наоборот, забились в угол под одним из кресел, привязанных к оконной решетке.
Яфет уплыл. Он не вернется. Она больше не увидит, как он бродит по пляжу в своих потертых советских шортах с бурыми медведями. Не увидит, как он плавает.
Как будто закончилась глава. И если эта глава закончилась, какой будет следующая, которая начнется?
Она подошла к перилам. Валерия и Болтун понимали бесполезность поисков. Валерии захотелось побежать к остальным, вернуть их в дом, объяснить им, отговорить. Вместо этого она смотрела, как они идут по волнорезу, почти не видному из-за волн и ветра, и ей казалось, что они идут по воде в неизвестность.
ПРИЗНАНИЕ ХУАНА МИЛАГРО
— Мама, я хочу спать.
Хуан Милагро всегда называл ее мамой. Мамина была ему как мать с тех пор, как ему исполнилось пять лет.
— Приляг ненадолго, Милагро, — ответила негритянка. Несмотря на то что у Мамины когда-то была дочь, умершая у нее на руках, а потом у нее была Висента де Пауль, Хуан Милагро был ей роднее и ближе всех. Мамина часто повторяла, что внутри ее, как в земле, корни этого огромного дерева, зовущегося Хуаном Милагро.
— Что за такие важные дела не дают тебе лечь, словно ты один можешь все уладить в этом доме?
— Я, как всегда, хочу спать и не могу уснуть.
— Тогда не ложись, какая разница? Спи так. Вот я, видишь, хлопочу на кухне, а сама сплю, не то чтобы я не проснулась сегодня утром, я сплю так давно, много лет. Все это сон, сынок, как поется в песне. В том числе исчезновение Яфета. И даже этот проклятый циклон.
Мамина обращалась с огромным мулатом, как с ребенком, и ему это нравилось. Старая негритянка была единственной, кто мог с ним так обращаться. Она была единственной, кто позволял ему проявлять слабость, кто не тре-бовал от него быть сильным и всемогущим, как Бог. Все остальные всегда ожидали, что он будет вести себя как могучий великан, всегда готовый прийти на помощь.
— Мама, мне нужно кое-что тебе рассказать.
— Я знаю, сынок, знаю, думаешь, я еще не поняла? Как только ты вошел весь мокрый и грязный, я так и подумала и сказала себе: «У Милагро что-то стряслось, и он хочет мне об этом рассказать». И я жду, терпеливо жду, потому что все на свете решается с помощью терпения. Поэтому я жду, пока ты выберешь момент и решишься рассказать мне, в чем дело.
Хуан Милагро улыбнулся и взял чучело черепахи со стола. Он посмотрел в глаза рептилии в надежде найти в этих мертвых глазах какое-нибудь выражение и ответ.
— Это связано с Федритой.
Мамина кивнула:
— Я жду, чтобы ты рассказал мне то, чего я не знаю.
Хуан Милагро поставил черепаху на ее место, на стол. Накрыл кухонным полотенцем, чтобы не видеть мертвых глаз чучела. Сел на табурет, зажег сигарету и закрыл глаза, словно хотел привести в порядок мысли.
Мамина взглянула на него, и ей захотелось поцеловать его в лоб.
Хуан Милагро остался без матери в пять лет, в 1952 году, о его отце никто ничего не знал. В детстве он жил на два дома — в хибаре в Собачьем переулке, где жил Травник, его дед, и в доме на пляже. Мамина еще помнила то холодное, пасмурное февральское утро, когда она Увидела необыкновенно красивого ребенка, мулата, выглядевшего в два раза старше своего возраста, с громадными умными глазами и по-девичьи длинными ресницами. Насупившийся от стеснения, он решительно вылез из автомобиля. Мистер попросил Мамину накормить мальчика. Она дала ему свинину в молоке и кукурузной муке, жаренную с чесноком малангу и сливочное печенье с вареной сгущенкой на десерт и обняла его, потому что почувствовала необходимость обнять этого мальчонку, в котором, как во всяком настоящем мужчине, уже тогда уживались отвага и беззащитность.
Травнику, его деду, на вид было лет сто. Потом они узнали, что он давно так выглядит и всегда будет выглядеть столетним негром. После его смерти доктор О’Рифи распорядился, чтобы мальчик переехал в дом на пляже. Хибара в Собачьем переулке опустела в ожидании лучших времен. И так или иначе, каждый по-своему, все этому обрадовались. Хуан Милагро стал еще одним членом семьи. И даже больше: что бы ни случилось, он всегда оказывался рядом, чтобы приложить всю свою силу, ловкость и чуткость и все уладить.
У доктора были для юноши планы на будущее. Он хотел — Полковник-Садовник подал ему эту идею — отправить Хуана Милагро учиться на Север, в какую-нибудь военную академию, где не обращали бы внимания на примесь негритянской крови и где ему была бы обеспечена неплохая карьера. Но доктор умер в 1954 году при загадочных обстоятельствах, а в 1959 году на острове случилось то, что случилось[60], и путь на Север, в эту землю обетованную, какой он был всегда, преградила непреодолимая стена.
В 1964 году, в семнадцать лет, Хосе Милагро призвали на обязательную военную службу. Не этой судьбы желали для него доктор и Полковник. Тем не менее нельзя не признать, что вернулся он возмужавшим. И в звании унтер-офицера саперного батальона. Возмужавшим означало более высоким, сильным, молчаливым и более уязвимым, как никогда нуждающимся в нежности. И как всегда жизнерадостным, хотя теперь за этой радостью скрывалась какая-то грусть.
К этому времени, после возвращения из армии, относилась история его знакомства с Федритой, дочерью хозяина текстильной фабрики на Кайо-ла-Роса[61]. Белокожей, с черными волосами, которые доходили ей до пояса и которые она всегда распускала во всей их пышной красе. Она жила в районе Ла-Минина, где заканчивались улицы поселка и за полным лягушек и желтых лотосов озерцом начинались пастбища, которые плавно переходили в обширные плантации сахарного тростника, тянущиеся до Ла-Мадамы и Кайо-ла-Роса. Как и все девушки, Федрита влюбилась в Хуана Милагро. Он не придал большого значения этой влюбленности и отнесся к Федрите как к прочим, с элегантной и благородной холодностью. Он жил сам по себе. Днем работал на птицеферме в Росамарине. Вечером помогал Полковнику-Садовнику заготавливать уголь. Потом иногда шел пить пиво и играть в кости в бар «У Энрике» Иногда предпочитал остаться дома и вместе с Мино слушать Бинга Кросби. А когда он чувствовал, что в нем просыпается мужчина, он шел к Мелине, жившей на краю кладбища (того самого кладбища, где дед его был могильщиком), и она, женщина за сорок, принимала его не просто радостно, а страстно и пылко, словно Божью благодать (каковой, вероятно, Хуан Милагро и был для нее на самом деле), и отдавалась ему, как не отдавалась никому, и освобождала его от платы за услуги улыбкой, больше походившей на страдальческую гримасу. На тот момент ему вполне хватало Мелины. Мелины и, разумеется, собственных фантазий, потому что ночью он часто уходил на пляж, уплывал подальше от берега и там позволял своим рукам исполнять капризы воображения. Он был еще очень молод и, окруженный желанием желавших его, нередко отдавал предпочтение собственному воображению, пренебрегая реальностью. Справедливости ради следует отметить, что воображение почти никогда его не подводило.
Федрита, такая же юная, как он, но более зрелая, одним словом, женщина, не была уверена в том, что воображение может служить достойной заменой осязаемой реальности. Ей было мало думать на рассвете о Хуане Милагро и с помощью рук придумывать этого отсутствующего Хуана Милагро. Поэтому она применила все свое искусство, чтобы завоевать мулата. Даже вопреки воле своей семьи (особенно отцовской). Ее семье кастильского происхождения было страшно представить, что внуки родятся отмеченными древней печатью рабства — темнокожими, с жесткой и непокорной шевелюрой.