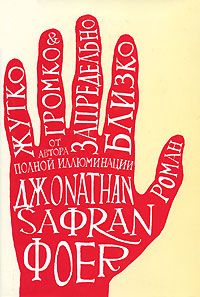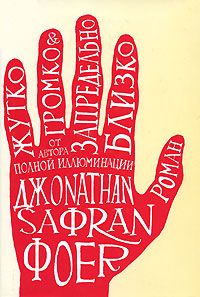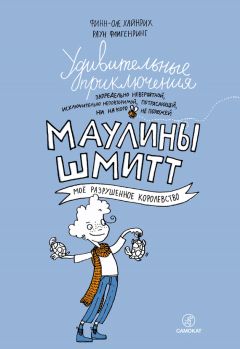Борис Рыжий - В кварталах дальних и печальных
«Похоронная музыка…»
Похоронная музыка
на холодном ветру.
Прижимается муза ко
мне: я тоже умру.
Духовые, ударные
в плане вечного сна.
О мои безударные
«о», ударные «а».
Отрешенность водителя,
землекопа возня.
Не хотите, хотите ли,
и меня, и меня
до отверстия в глобусе
повезут на убой
в этом желтом автобусе
с полосой голубой.
«Снег за окном торжественный и гладкий…»
Снег за окном торжественный и гладкий,
пушистый, тихий.
Поужинав, на лестничной площадке
курили психи.
Стояли и на корточках сидели
без разговора.
Там, за окном, росли большие ели —
деревья бора.
План бегства из больницы при пожаре
и все такое.
…Но мы уже летим в стеклянном шаре.
Прощай, земное!
Всем всё равно куда, а мне — подавно,
куда угодно.
Наследственность плюс родовая травма —
душа свободна.
Так плавно, так спокойно по орбите
плывет больница.
Любимые, вы только посмотрите
на наши лица!
1984
До блеска затаскавший тельник,
до дырок износивший ватник,
мне говорил Серега Мельник,
воздушный в юности десантник,
как он попал по хулиганке
из-за какой-то глупой шутки —
кого-то зацепил по пьянке,
потом надбавки да раскрутки.
В бараке замочил узбека.
Таджику покалечил руку.
Во мне он видел человека,
а не какую-нибудь суку.
Мол, этот точно не осудит.
Когда умру, добром помянет.
Быть может, уркою не будет,
но точно мусором не станет.
1985
В два часа открывались винные магазины
и в стране прекращалась работа. Грузины
торговали зельем из-под полы.
Повсюду висели флаги
В зелени скрывались маньяки.
Пионеры были предельно злы,
и говорили про них: гомосеки.
В неделю раз умирали генсеки…
Откинувшийся из тюрьмы сосед
рассказывал небылицы.
Я, прикуривая, опалил ресницы
и мне исполнилось десять лет.
Стихотворение Ап. Григорьева
После многодневного запоя
синими глазами мудака
погляди на небо голубое,
тормознув у винного ларька.
Ах, как все прекрасно начиналось:
рифма-дура клеилась сама,
ластилась, кривлялась, вырывалась
и сводила мальчика с ума.
Плакала, жеманница, молилась,
нынче улыбается, смотри:
как-то все, мол, глупо получилось,
сопли вытри и слезу сотри.
Да, сентиментален, это точно.
Слезы, рифмы, все, что было, — бред.
Водка скиснет, но таким же точно
небо будет через тыщу лет.
«Почти случайно пьесу Вашу…»
К А.П.
Почти случайно пьесу Вашу,
вернувшись с минеральных вод,
прочел и вспомнил встречу нашу
в столице позапрошлый год.
…На легкой бричке — по казенным —
я из Казани прилетел
усталым, нищим и влюбленным
в поэмы Александра Л.
Звучит ли ныне эта лира,
умолк ли сей печальный глас?
От «Гезиода и Омира»[49]
готов заплакать хоть сейчас.
Иль это Батюшков? Но к делу!
нас познакомил Александр…
Простите, с рифмою заело:
тетраэдр… Гектор… автокар!
Да, точно Барюшков! Он, к слову,
поручик тоже. Что потом?
Зашли к жиду Золотареву,
дурным затарились вином.
Пошли гулять на всю округу,
к цыганам ездили гурьбой.
Неделю ехал через Лугу
в село Бобрищево, домой.
Лесочек, поле, шито-крыто,
мила соседка, глуп сосед.
А Вас спросить позвольте: мы-то
стрелялись, что ли? Или нет?
«Положив на плечи автоматы…»
Положив на плечи автоматы,
мимо той, которая рыдала,
уходили тихие солдаты
прямо в небо с громкого вокзала.
Развевались лозунги и флаги,
тяжело гудели паровозы.
Слезы будут только на бумаге,
в небе нету слез и слова «слезы».
Сколько нынче в улицах Свердловска
голых тополей, испепеленных
И летит из каждого киоска
песенка о мальчиках влюбленных.
Потому что нет на свете горя,
никого до смерти не убили.
Синий вечер, розовое море,
белые штаны, автомобили.
«В номере гостиничном, скрипучем…»
В номере гостиничном, скрипучем,
грешный лоб ладонью подперев,
прочитай стихи о самом лучшем,
всех на свете бардов перепев.
Чтобы молодящиеся Гали,
позабыв ежеминутный хлам,
горничные за стеной рыдали,
растирали краску по щекам.
О России, о любви, о чести,
и долой — в чужие города.
Если жизнь всего лишь форма лести,
больше хамства: «Водки, господа!»
Чтоб она трещала и ломалась,
и прощалась с ней душа жива.
В небесах музы ка сочинялась
вечная — на смертные слова.
«Ночь. Каптерка. Домино…»
Ночь. Каптерка. Домино.
Из второго цеха — гости.
День рождения у Кости
И кончается вино:
ты сегодня младший, брат,
три литрухи и — назад.
И бегу, забыв весь свет,
на меня одна надежда.
В солидоле спецодежда.
Мне почти семнадцать лет.
И обратно — по грязи,
с водкою из магази…
Что такое? Боже мой!
Два мента торчат у «скорой».
Это шкафчик, о который
били Костю головой?
Раз, два, три, четыре, пять
Все — в машину, вашу мать.
Зимний вечер. После дня
трудового над могилой,
впечатляюще унылой
почему-то плачу я:
ну, прощай, Салимов К. У.
Снег ложится на башку.
«Серж эмигрировать мечтал…»
Серж эмигрировать мечтал,
но вдруг менту по фейсу дал
и сдал дела прокуратуре,
Боб умер, скурвился Вадим,
и я теперь совсем один
как чмо последнее в натуре.
Едва живу, едва дышу,
что сочиню — не запишу,
на целый день включаю Баха,
летит за окнами листва
едва-едва, едва-едва,
и перед смертью нету страха.
О где же вы, те времена,
когда я пьян был без вина
и из общаговского мрака,
отвесив стражнику поклон,
отчаливал, как Аполлон,
обвешан музами с химфака.
Я останавливал такси —
куда угодно, но вези.
Одной рукой, к примеру, Иру
обняв, другою обнимал,
к примеру, Олю и взлетал
над всею чепухою мира.
Леонтьеву
«…Всё на главу мою…»
А. П.[50]
Сашка, пьяница, поэт,
ни поэму, ни сонет,
ни обычный ворох од
не найдешь ты в сем конверте.
Друг мой, занят я. И вот
чем. Уж думал, дело к смерти,
да-с, короче, твой Борис
было уж совсем раскис,
размышляя на предмет
подземелья, неба, морга.
Вдруг, поверишь ли, поэт,
появляется танцорка.
Звать Наташей. Тренер по
аэробике — и по,
доложу тебе, и но,
и лицом мила, как будто.
Хоть снимай порнокино
на площадке Голливуда.
Так что, Сашка, будь здоров.
Извини, что нет стихов, —
скверной прозою пишу,
что едва ль заборной краше.
С музой больше не грешу,
я грешу с моей Наташей.
«Дурацкий вечер, с книжечкой в руке…»